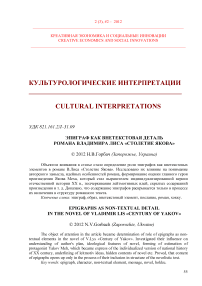Эпиграф как внетекстовая деталь романа Владимира Лиса «Столетие Якова»
Автор: Горбач Наталия Викторовна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Культурологические интерпретации
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Объектом внимания в статье стало определение роли эпиграфов как внетекстовых элементов в романе В. Лиса «Столетие Якова». Исследовано их влияние на понимание авторского замысла, идейных особенностей романа, формирование оценки главного героя произведения Якова Меха, который стал выразителем индивидуализированной версии отечественной истории ХХ в., подчеркивания лейтмотивных идей, скрытых содержаний произведения и т. д. Доказано, что содержание эпиграфов раскрывается только в процессе их включения в структуру романного текста.
Эпиграф, образ, внетекстовый элемент, послание, роман, хокку
Короткий адрес: https://sciup.org/14238932
IDR: 14238932 | УДК: 821.161.2Л-31.09
Текст научной статьи Эпиграф как внетекстовая деталь романа Владимира Лиса «Столетие Якова»
Эпиграф как «ключ к пониманию авторского замысла, идейных, жанрово-эмоциональных и стилевых особенностей» [8, с. 180] играет важную роль, расширяя семантические границы авторского текста. Он свидетельствует об интегрировании морально-этических, философских, эстетических традиций разных культур.
Основной функцией эпиграфа определяется диалогизирующая функция – введение «другой, неавторской точки зрения» [7, с. 60], ведь восприятие эпиграфа рассчитано на привлечение контекста, из которого эпиграф взят. По этому поводу автор романа отмечал: «Когда я прочитал «Соборное послание апостола Иакова», где определяющим есть вопрос с ответом «Что такое жизнь наша? Пар, который появляется на минутку, а потом исчезает», то выбрал для героя это библейское имя. А еще когда почувствовал контраст с японским хокку («Слышишь, как играет сверчок? / Слушает небо сквозь ночь / сердце насекомого»), то понял: это камертон романа. Жизнь. Несмотря на прожитые сто лет, кажется одной волной» [3, с. 1].
Публикация Романа В.Лиса «Столетие Якова» вызвала положительные отзывы. Среди первых – оценки О.Забужко [5], В. Агеевой [1]. Однако объектом системного литературоведческого анализа ни роман в целом, ни локальные аспекты его поэтики, в частности эпиграфы, еще не становились. Поэтому целью нашего исследования и станет выяснение влияния такой внетекстовой детали художественного произведения как эпиграф на понимание авторского замысла, идейных особенностей романа, формирование оценки главного героя произведения, подчеркивание лейтмотивных идей, скрытых смыслов произведения и т.п.
Материалом для художественного и философского наблюдения писателя стала история, которая актуализируется через судьбу полесского крестьянина Якова Меха – ровесника ХХ века. Замысел написать произведение о человеке на фоне целой эпохи, по признанию автора, возник в начале 80-х гг. прошлого века: «В 1981-м мой родной дед Федор Иванович Куско, как сейчас помню ... говорит: «Володя, жизнь как один день, как время промчалось». А я думаю: Боже мой, он же пережил две мировые войны, каторжно работал на своем хуторе, отвоевав его и клочок поля у полесского болота, пережил утрату детей и вдруг такое говорит» [6, с. 1].
Известно, что «эпиграф одновременно создает коммуникативное пространство художественного текста и определяется этим коммуникативным пространством» [7, с. 63]. Эпиграфы к роману «Столетие Якова» взяты В.Лисом из разных эпох и культур, но, накладываясь на план его литературного произведения, формируют особую систему ценностных ориентиров. Источники эпиграфов – библейское послание апостола Иакова и произведение неизвестного японского поэта XVIII в. – определяют нравственное поведение главного героя на его жизненном пути.
Библейский эпиграф указывает на образную аналогию, которая подчеркивается и названием произведения. То, что именно автор шестой книги Нового завета, а не один другой библейский Иаков, является небесным патроном Меха, неоднократно указывается в тексте произведения. Впервые сравнивается 17-летний Яков с его библейским тезкой, когда юноше, похитившему любимую девушку со свадьбы, удается избежать физической расправы. Онирическое олицетворение небесного покровителя происходит во время пребывания героя в немецком концлагере. Физическое и психическое истощение Меха, на глазах которого неоднократно в жерле доменной печи гибли люди, с одной стороны, а с другой – непреодолимая вера в покровительство высших сил стирают грань между реальностью и призрачным миром: «Иногда ему казалось, что наяву вместе с ним везет тачку с рудой апостол Иаков, и тогда становилось не так страшно. Может, действительно ангел-апостол его спасет?» [9, с. 161].
«Послание Иакова» является словно переходным звеном между Ветхим и Новым заветами, оно написано скорее в стиле ветхозаветных книг и не содержит откровений в духе посланий Петра или Павла. Кстати, эта новозаветная книга была канонизирована несколько позже других [4, с. 46-50]. Такое положение дел было обусловлено доктринальными противоречиями, которые, якобы, виделись богословами между этим произведением и посланием апостола Павла: если последний говорил о вере, как определяющей черте христианина, Иаков подчеркивал важность поступков, без которых вера мертва.
Если теологи это противоречие опровергают временем написания обоих произведений, их адресатов и т.д., то В.Лис снимает его через дословное цитирование (единственное в тексте романа) строк Первого послания апостола Павла к коринфянам: «И когда это бренное оденется в нетление, а это смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное слово: «Смерть поглощена победой. Где твоя, смерть, победа? Где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон» [9, с. 231]. Слова апостола о торжестве жизни, воскресения над смертью порождают в душе Якова убеждение в том, что он грехов не искупил. Обращает на себя внимание диалогичность цитируемых строк с библейским эпиграфом романа («Что такое жизнь ваша? Пар, который появляется на минутку, а потом исчезает»): мотив быстротечности, суетности земной жизни уравновешивается стремлением к преодолению греховности, а значит и смерти.
Жизненный путь персонажа романа разворачивается в нескольких временных плоскостях – в условном настоящем (последний год жизни Якова) и ретроспективно – за пять лет до этого и на протяжении целого столетия. Слова старого торговца о том, что подобно Якову «не все со смертью поединок выигрывают» [9, с. 51], становятся определяющими для художественного развертывания жизнеописания главного героя.
Судьба неоднократно испытывала не только его человеческие качества, но и жизнь: во время службы в польской армии и вторжения немцев в 1939 г., пребывания в лагерях пленных в 1939 и 1944 гг., службы в советском войске, утверждения советской власти на Полесье и национального сопротивления в послевоенный период. Со страшными потерями переживает эти времена Яков Мех: от рук энкаведистов погибает его любимая жена и две дочери –
Зося и Ульянка, позже, из-за психического расстройства, вызванного увиденными зверствами, умирает старшая – Параска.
Но Яков находит в себе силы терпеливо, смиренно сносить испытания (как это и советует делать его сакральный тезка, ведь одна из главных тем послания – терпеливое преодоление испытаний), так как еще имеет о ком беспокоиться: «Яков пересилил желание броситься к тому уроду, теперь одетому в свою форму, а не в полушубок, в котором приходил позавчера в их дом, вырвать из кобуры револьвер... Но рядом держится за полу его фуфайки совсем маленькая Олька, а дома в колыбели – Артемка ...Должен хоть их уберечь» [9, с. 195–196].
Такое сгущение событий, пережитых Мехом, делает из глухого волынского села, в котором родился и жил герой, своеобразную микромодель мира с его общественными потрясениями и незаметными будничными радостями. Эпоха, переданная сквозь призму восприятия обычного человека, неоднократно вызывает ощущение невероятности описанных событий. Но как отмечал автор, в его романе много взято из самой жизни – в частности, жителей Волыни, которые в 30–40-х гг. воевали в составе армий различных государств и позднее стали героями очерков В.Лиса-журналиста. Писатель отмечал, что в образе Якова Меха он объединил судьбы своих земляков, которые служили в Войске Польском и первыми оказали сопротивление немцам в 1939 г. [3, с. 1]. Документальным он называет и эпизод метафизического заступничества за Меха, который невредимым приносит воду от реки, обстреливавшейся врагом. «Я собрал ряд фактов, немного дофантазировал и создал свой образ» [6, с. 1], – говорит В.Лис.
Автор не соглашается с определением его героя как «маленького» человека, живущего по принципу «моя хата с краю ...». Величие Якова Меха заключается, прежде всего, в его стоической выносливости и чувстве долга перед близкими ему людьми. Описывая ветеранов войны, судьбы которых дали фактаж для построения художественной версии жизни человека на фоне века, писатель отмечал: «Они ухитрились выстоять, выжить и дожить до ста лет, сохранив ясную память, философское отношение к жизни. Тайной долголетия многие называли чувство ответственности за семью и сильное желание узнать, а как будет дальше» [6, с. 1].
Кстати, способность сопереживать, защищать – самая выдающаяся черта характера Якова. Таким предстает он в отношениях с Зосей: «Ее маленькая рука в его большой крестьянской мужской лапе. И судьба тоже» [9, с. 110]. Даже в концлагере, обнаружив медальон с портретом жены у чужого человека, он продолжает жить с желанием «согреть женщину-девочку» на фото. В желание защищать трансформируется несчастная любовь к Ульянке: «Перед собой не любимую девушку (теперь уже женщину) видит, а сестру свою. Сестру, которую нужно оберегать» [9, с. 63].
Отношение 94-летнего Якова к Аленке – приблудившейся наркоманке, – коррелируется с требованием апостольского послания: «Тот, кто обратил грешника с ложного пути его, спасет его душу от смерти и множество грехов покроет» [Иак., 5, с.20]. Яков, не зная практически ничего о прошлом девушки, которую освободил от наркотической зависимости, интуитивно чувствует угрозу. Когда угроза материализуется в образе бывшего возлюбленного девушки – Ростислава, который сначала сделал ее наркоманкой, а теперь угрожает расправой, Яков, второй раз в жизни, уже в мирное время, решается на убийство человека: «Тяжкий грех ... Спасал, как мог» [9, с. 234]. Первой же жертвой Якова стал потенциальный предатель – Трофим. Осознавая вынужденность такого шага («Его-то заберут. Но и Зосю с дочерьми, с сыном маленьким, с мамой старой – вывезут» [9, с. 181]), Яков все равно не снимает с себя ни моральной ответственности за совершенный грех, ни материальных обязательств перед детьми и женой убитого, которую, по иронии судьбы, полюбил на склоне лет. Через некоторое время, в попытке облегчить душу, Мех признанием в содеянном и сам разрушит эти отношения, хотя и не получит душевного облегчения.
Несомненную симпатию вызывает Яков не только способностью в решающие моменты проявлять силу духа, мужество, ответственность, но и способностью жить сердцем, душой, любить жизнь во всех ее проявлениях, помогать тем, кто нуждается в помощи. Трогает то, что Яков сумел принять неродную ему Парасочку и никогда не вспоминать историю ее появления на свет или молчаливое согласие престарелого уже мужчины не разочаровывать сельского врача Викторию, которая много лет считала его отцом. В.Лис наделяет героя некоторым магнетизмом, за которым стоит естественность, самодостаточность Иакова. Этим он и привлекает женщин, с которыми его сводила судьба, этим и объясняется решение матери Виктории: «Чего же ее мать назвала его, Якова, отцом? Сердце Якова снова будто сжалось. Но не болело. Чего-то на удивление легко стало и на душе, и на ... Да, на сердце ... перестали давить тиски ...» [9, с. 188].
Следует отметить, что при всей событийной насыщенности романа, автор каждую сюжетную линию логически мотивирует, постепенно разворачивая в канве произведения, и мастерски сводит воедино в финале. Так, завершение приобретают даже микросюжеты: рассказ о дружбе Якова с Кшиштофом Собеским во время службы и приезд последнего уже в 70-х годах; история подаренного Зосей своей первой любви медальона, который странным способом попадает в руки Меха в концлагере; красный конь, появляющийся перед Яковом, то как реальность, то как плод фантазии; отношения с Тимофеем, мужем Ульяны, развивающиеся от вражды к сдержанной мужской дружбе. Стремясь доказать читателю, «что жизнь одновременно и мимолетная, и она – сочетание и простой реальности, и космоса» [3, с. 1], автор в финале романа наделяет Якова Меха мыслями, созвучными тем, которые когда-то слышал от своего деда: «Если хорошо подумать – то, Господи, жизнь промелькнула, как один-единственный день. Ибо где она? Марево, сон, хотя поле в том сне якобы велико было, и река, которую переплывал, широкая» [9, с. 235]. Таким образом, в романе реализуется функциональная направленность библейского эпиграфа.
Второй эпиграф «Слышишь, как играет сверчок? / Слушает небо сквозь ночь / сердце насекомого» обозначает не менее важные ассоциативные связи с текстом романа. Главный образ этого хокку соотносится с уличным прозвищем Якова Меха – Сверчок: «Да, сверчок, сверчечище. Запоздалый гость, полуночник какой-то осенний, неизвестно чего отозвавшийся. «Отпевает он меня что ли?» – сердито подумал Яков. Зараза малая, все больше и громче стрекочет. Может, какой поп, батюшка сверчковый?
Здесь пришла странная мысль – они же оба сверчки. Ведь то прозвище перешло неизвестно чего. Покойный отец говорил, что его прабабушку, которая рта не закрывала, и разговоры безудержные вела, и в хоре церковном пела, Сверчихой прозвали. Так и повелось» [9, с. 176].
Избранный писателем образ имеет положительную коннотацию как в отечественной мифотрадиции, так и в японской. Но если в украинском бестиарии сверчок ассоциируется с добром, счастьем, удачей, связью с предками, то в японском этот образ отмечен эмоциональной минорностью. Для японской поэзии – это не только один из важнейших образов насекомых, но и так называемое киго – сезонное слово. То есть слово, образ, с которым ассоциируется определенное время года [11, с. 43]. Образ сверчка (а их в японской поэзии существует несколько видов, каждый из которых имеет собственное название, которое, однако, невозможно воспроизвести при переводе, и наделяется отдельным звукоподражательным словом) символизирует конец лета, осень, замирание природы. Сверчки, как цикады и другие «поющие» насекомые, содержались в домах японцев как птицы (существовала даже гильдия продавцов сверчков), а их звук – традиционный образ, передающий спокойствие одиночества. Как отмечал А.Мещеряков, стих о сверчках всегда печален, поскольку пение сверчка означает окончание лета и приход осени [10, с. 78].
Однако, при формальном несходстве обоих эпиграфов, можно говорить об их диалогичности: для жанра хокку присуще изображение на фоне природы сложностей человеческой жизни, постижение ее непостоянства, мимолетности, печального обаяния. В романе мотив быстротечности жизни подчеркивается образом сверчка «из рода сверчков, живших испокон веков в доме, хозяев которого тоже прозвали Сверчками» [9, с. 235].
Мех, который мечтал дожить до ста лет, в финале произведения ждет прихода весны не из-за юбилейной даты, а в надежде еще раз услышать пение сверчка: «И тут подумал Яков, что больше всего ему даже не до столетия своего дожить хочется. Не семью всю вместе и Лену, которую спас, увидеть. А дожить до весны, до той поры, когда проснется, снова отзовется сверчок, который живет в его одинокой хате...» [9, с. 235].
Как видим, этот образ с одной стороны ассоциируется, по японской традиции, с осенью и символизирует угасание человеческой жизни, а с другой связан с весной, а значит надеждой на возобновление, продление жизни. А еще – это гимн способности человека, столько выдержавшего, радоваться жизни, удивляться изменчивости мира даже на пороге смерти: «Можно теперь уж умирать, – подумал Яков, когда сын закончил говорить. – Хотя нет, надо все-таки будет того сверчка послушать» [9, с. 237].
Эмоциональная тональность произведения задается внутренней связью эпиграфов. Именно сочетание религиозного и светского этических «кодексов» придают образу Якова жизненность и завершенность. Если, с одной стороны, поведение героя обусловлено подтекстовым существованием его сакрального «двойника», то с другой – уходит корнями в традиции полесского села.
Итак, эпиграфы к роману В.Лиса «Столетие Якова» в полной мере реализуют свою диалогическую функцию при условии привлечения к анализу не только авторского текста, но и текстов-источников, что дает основания считать их метонимическими. Выступая как компонент романа «Столетие Якова», они в то же время диахронически актуализируют смысл соборного послания апостола Иакова и хокку неизвестного японского поэта XVIII в., наделяя роман В.Лиса универсальным звучанием.
Список литературы Эпиграф как внетекстовая деталь романа Владимира Лиса «Столетие Якова»
- Агеєва В., Герасим’юк О. Володимир Лис. Столiття Якова/Українська правда. -2010. -4 листопада. -Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/book/2010/11/4/64823/view_print/
- Бiблiя або Книги Святого Письма Старого й Нового заповiту. -Запорiжжя: Об’єднання бiблiйних товариств, 1991. -296 с.
- Вербич В. Володимир Лис: «Втеча в слово i допомогла зберегти душу»//Українська лiтературна газета. -2011. -8 квiтня.
- Головащенко C. Бiблiєзнавство. Вступний курс. -К.: Либiдь, 2001. -496 c.
- Забужко О. Направду добра книжка//Лис В. Столiття Якова [текст]/Передм. О.Забужко. -Харкiв: Книжковий Клуб «Клуб Сiмейного Дозвiлля», 2010. -С. 5-6.
- Iвшина Л., Тисячна Н. Володимир Лис: Для мене немає «маленьких українцiв»!//День. -2010. -3 грудня.
- Кузьмина Н. Эпиграф в коммуникативном пространстве художественного текста//Вестник Омского государственного университета. -1997. -№ 2. -С. 60-63.
- Лексикон загального та порiвняльного лiтературознавства/За ред. А. Волкова, О.Бойченка, I.Зварича та iн. -Чернiвцi: Золотi литаври, 2001. -636 с.
- Лис В. Столiття Якова [текст]/Передм. О.Забужко. -Харкiв: Книжковий Клуб «Клуб Сiмейного Дозвiлля», 2010. -240 с.
- Мещеряков А. Книга японских символов. -М.: Наталис, 2003. -556 с.
- Сто краєвидiв малювали хмари/Коментарi Д.Купко. -К.: Гранi-Т, 2007. -48 с.