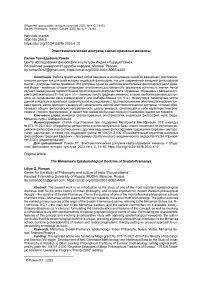Эпистемологическая доктрина сватах-праманья мимансы
Автор: Роман Лилия Геннадьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа представляет собой введение в исследование одной из важнейших эпистемологических доктрин как для всей истории индийской философии, так для современной западной философской мысли - доктрины сватах-праманья. Это доктрина одной из наиболее влиятельных философских школ Древней Индии - мимансы, которая утверждает внутреннюю достоверность, априорную истинность знания. Автор изучает самые ранние первоисточники происхождения доктрины сватах-праманьи, обращаясь к Миманса-сутрам (приблизительно III-I вв. до н. э.) - главному тексту традиции мимансы, а также наиболее раннему доступному на сегодняшний день комментарию к ним Шабары-бхашья (ок. V в.). Формулируя характерные черты данной концепции и привлекая сравнительное исследование с противоположными эпистемологическими точками зрения, автор приходит к выводу об уникальности данной эпистемологической доктрины, которая обеспечивает общую философскую направленность школы миманса, сочетающей в себе характеристики реализма и «тонкого прагматизма», и задает тем самым необычный подход к пониманию знания как такового.
Миманса, сватах-праманья, эпистемология, индийская философия, ньяя, веды, миманса-сутры, шабара-бхашья
Короткий адрес: https://sciup.org/149142510
IDR: 149142510 | УДК: 165:294.5 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.10
Текст научной статьи Эпистемологическая доктрина сватах-праманья мимансы
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, ,
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, Russia, ,
Введение . Миманса ( mīmāṃsā ), называемая также пурва-миманса ( pūrva mīmāṃsā , первая, начальная миманса) или карма-миманса ( karma-mīmāṃsā , миманса действия), – одна из шести наиболее значимых классических ортодоксальных философских традиций (даршан) Древней Индии, первые упоминания о которой восходят к брахманам и упанишадам. Так, в «Субала-упа-нишаде» ее возникновение связывается с жертвоприношением Пуруши: «…с выдохом этого великого существа [возникли] Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа; [науки] о произношении, ритуале, грамматике, этимологии, метрике, движении светил; ньяя, миманса, дхармаша-стры, вьякхьяны, упавьякхьяны и все существа»1.
Становление пурва-мимансы связывают с именем легендарного Джаймини ( Jaimini , приблизительно III–I вв. до н. э.) – древнеиндийского философа, которому приписывается авторство основополагающего текста традиции Миманса-сутры ( Mīmāṃsā - sūtra , далее – МС)2. Наиболее древним из сохранившихся комментариев на текст Миманса-сутр является комментарий Шабары (Шабарасвамин, Śabara -svāmin, V в.) Миманса-сутра-бхашья, или Шабара-бхашья ( Mīmāṃsā - sūtra -bhāṣya, Śābara - bhāṣya , далее – ШБ)3. Известны также комментарии более поздних миман-саков: Шлокаварттика ( Ślokavārttika ) Кумарилы Бхатты ( Kumārila Bhaṭṭa , VII в.) и Ньяяратнакара ( Nyāyaratnākara ) Партхасаратхи Мишры ( Pārthasārathi Miśra , XI в.), а также некоторых других.
Как известно, главной задачей своего учения миманса видела в формировании правил толкования Вед, что прежде всего было связано с общей целью подъема авторитета Священного Писания на фоне всевозрастающего количества неортодоксальных мыслителей, в частности буддистской традиции, опровергающих Веды. Помимо такой герменевтической направленности мимансы особое внимание заслуживает ее теория познания, т. е. эпистемологические установки. В этой области исследования миманса постулирует одну из оригинальных концепций индийской философии: сватах-праманья ( svataḥ-prāmāṇya – собственная достоверность) – доктрина внутренней достоверности знания.
Современный американский индолог, исследователь брахманистской и буддистской традиций Дж. Тэйбер в статье «Как Кумарила Бхатта понимал сватах-праманья?» показал, что «сватах-праманья лежит в самой сердцевине мысли мимансы», рассматривая эту концепцию как «зародыш реализма в мимансе», сыгравший важную роль «в опровержении буддийского идеализма и демонстрации реальности внешних объектов» (Taber, 1992: 218; см. также монографию: Taber, 2005).
Концепция сватах-праманьи в эпистемологии мимансы также обстоятельно рассматривается другим современным американским исследователем философии религии Д. Арнольдом во второй части его относительно недавней монографии (Arnold, 2005), где автор сосредоточил внимание на Кумариле Бхатте и двух его комментаторах: Бхатте Увеке (VIII в.) и Партхасаратхи Мишре (XI в.), а также в его статье «О внутренней достоверности: исследование актуальности пурва-мимансы» (Arnold, 2001). Д. Арнольд исследует концепцию сватах-праманьи с точки зрения ее интерпретации как доктрины антифундаменталистского4 толка в противовес сложившемуся в истории индологии мнению о том, что учение мимансы не может в полной мере трактоваться как философское учение в силу его догматичного, фундаменталистского характера (Arnold, 2001: 27). Антифундаментализм мимансы, утверждаемый Д. Арнольдом, имеет большое значение в диспуте с фундаменталистскими, по мнению американского исследователя, школами, такими как ньяя и буддийская традиция в лице логиков Дигнага и Дхармакирти.
Несмотря на то что сватах-праманья – существеннейшая часть эпистемологии Кумарилы Бхатты, тем не менее, как отмечает современный американский индолог и санскритолог Л. Мак-Кри, она не является его новацией – основные черты этой концепции уже присутствуют в комментариях Шабары на Миманса-сутру (1.1.5 ШБ) (McCrea, 2013: 134). Поэтому в данной работе тезис сватах-праманьи рассмотрен в том виде, в каком он проявляется в самых ранних работах традиции мимансы, а именно в МС и ШБ, с тем чтобы раскрыть общую специфику данного эпистемологического метода.
Определение сватах-праманьи . Сватах-праманья ( svatah-pramanya, где svatas от sva -само собой, самопроизвольно; prāmāṇya – очевидность, авторитетность, или иначе: свойство быть связанным с эпистемическим инструментом – праманой – pramāṇa ) – это доктрина внутренней достоверности знания, или самодостоверности (в английском переводе встречаются следующие формулировки: intrinsic validity, self-certification, self-validity, self-evidence doctrine), которая утверждает, что любое познание истинно само по себе. Иными словами, знание, приобретенное за счет какого-либо принятого мимансой инструмента познания – праманы ( pramāṇa )1, согласно данной доктрине, является истинным, достоверным изначально, априори: внутренняя сущность познания истинна, невозможен другой, а именно ложный, характер познания.
Существует противостоящая мимансе точка зрения по этому вопросу, которая получила название паратах-праманья ( parataḥ-prāmāṇya , где paratas от para – иначе, из другого источника), характерная, например, для школы ньяя ( nyāya ). Согласно паратах-праманье, представители ньяи указывали на то, что авторитетность, достоверность познания проистекает из совершенства причины, т. е. устанавливается ab extra – внешне, в то время как представители традиции мимансы в рамках сватах-праманьи утверждали, что истинность познания не зависит от внешних условий, т. е. от исследования причинных условий возникновения знания, но внутренне присуща изначально (Keith, 1921: 17).
Для сватах-праманьи характерно то, что самодостоверность знания относится как к его происхождению, так и к его установлению, т. е., если причинные условия a, b, c объясняют происхождение знания, то они же объясняют его достоверность (Hiriyanna, 1993: 307). Для последнего никаких дополнительных средств больше не нужно. В противоположность этому паратах-праманья утверждает необходимость так называемого «дополнительного» условия ( asādhāraṇakaraṇam ), обозначаемого как гуна ( guṇa ), которое объясняло бы возникновение истины, или, наоборот, неблагоприятного условия, обозначаемого как доша ( doṣa ), иначе – дефекта, которое отвечало бы за ложность познания (Bilimoria, 2008: 241). В последнем пункте о дефектах как признаке ложного познания сватах-праманья и паратах-праманья имеют точки соприкосновения, потому как сватах-пра-манья не исключает возможность ошибки, дефектов (о чем будет сказано позже), а лишь говорит о том, что истинность познания не нужно дополнительно подтверждать. Возможно лишь выявлять, доказывать ошибки познания, но не истинность познания, ведь то, что истинно, невозможно сделать более истинным (Bilimoria, 2008: 256).
Данный вопрос связан с так называемой проблемой верификационистского подхода обоснования знания. Доктрина паратах-праманьи в ее грубом виде сталкивается со следующей сложностью. В рамках такого подхода, чтобы обосновать то или иное знание, необходимо исследовать причины, прибегнуть к внешним условиям этого знания на предмет того, являются ли они истинными или ложными. Последние, в свою очередь, так же требуют установления их истинности и так до бесконечности. Следовательно, когда достоверность познания зависит от совершенства его источника, требуется другое познание, чтобы гарантировать правильность источника. Существует опасность впасть в дурную бесконечность. Сватах-праманья мимансы, в свою очередь, отвечает на это так: если бы познание было недействительно само по себе, тогда оно не могло бы стать таковым и с помощью какой-либо внешней силы (Keith, 1921: 18). Однако, несмотря на то что прямая проверка подтверждения истинности не подразумевается, сватах-пра-манья предлагает набор признаков или критериев для обнаружения возможных дефектов, тем самым выявляя источник ошибки. Это аналогично тому, что предпочтение отдается фальсифи-кационистской методологии по причинам очевидных трудностей верификационистского подхода. Истинность знания признается до тех пор, пока данное знание не будет сфальсифицировано новым. Таким образом, если показано, что ложность отсутствует, это значит, что фальсификации не было, а это подразумевает, что истинность познания можно считать установленной вне всяких сомнений (Bilimoria, 2008: 258).
Сватах-праманья и пять инструментов познания . Рассмотрим доктрину сватах-пра-маньи согласно МС и ШБ. Традиция миманса, определяя набор праман, выделяет две из них как наиболее важные – авторитет Священного Писания (Веды) (шабда – śabda ) и восприятие (пра-тьякша – pratyakṣa ). О восприятии заходит речь в сутре 1.1.4. МС: Satsaṃprayoge puruṣasyendri-yāṇāṃ buddhijanma tatpratyakṣam animittaṃ vidyamānopalambhanatvāt 1 («Познание, [возникающее] при контакте органов чувств (индрий) человека – есть “чувственное восприятие”, [оно является] неопределенным, [т. е. не является средством познания дхармы], по причине того, что [оно] постигает только наличное»2). Данная сутра отсылает к тому, что восприятие направлено только на эмпирически познаваемую реальность, внешний мир, не имея при этом связи со сверхчувственными вещами, т. е. дхармой.
Эту сутру разъясняет Шабара в контексте того, что познание, полученное посредством восприятия, априори является реальным, или достоверным, с точки зрения сватах-праманьи, а именно говорится о том, что настоящее чувственное восприятие никогда не бывает неправильным, ложным; то, что ошибочно, – это не есть чувственное восприятие. Настоящее (т. е. с точки зрения сватах-праманьи достоверное) чувственное восприятие объяснено в сутре 1.1.4 путем перестановки sat и tat и означает: «то познание является реальным чувственным восприятием ( satpratyakṣam ), которое появляется при контакте органа чувств с объектом восприятия ( tatsamprayogē ). Следовательно, когда орган чувств находится в контакте с реально воспринимаемым объектом, результирующее познание человека является реальным чувственным восприятием. И наоборот, нереальное восприятие есть тогда, когда воспринимаемый объект отличается от того, с которым орган чувств находится в контакте (так что в случае, когда раковина ошибочно воспринимается как серебро, где то, что воспринимается, является серебром, в то время как в реальности глаз находится в контакте с раковиной, то в этом случае настоящее чувственное восприятие отсутствует)»3.
Другими словами, если познание достигается за счет признанной праманы – восприятия и если это действительно настоящее восприятие, то оно будет априори достоверным. Возникает вопрос, как установить факт, что человек воспринимает нечто иное, а не нужный объект, в то время когда человек уверен в том, что его глаза действительно соприкасаются с настоящим серебром? В ШБ дается развернутый ответ. При восприятии нужно иметь в виду, что познание является неверным в трех случаях: a) когда ум поражен каким-то расстройством; б) когда соответствующий орган чувств окружен темнотой или другими подобными недугами; в) когда сам объект страдает от такого ограничения как слишком тонкий (для восприятия) и т. д. Таким образом, во всех трех случаях наблюдается указание на какой-либо дефект ( karaṇa-doṣa ): разума, органа чувства или объекта (дефект одного, другого или третьего – тритая, tritaya )4.
Если мы не обнаруживаем какого-либо дефекта, следует сделать вывод, что дефекта нет просто потому, что нет ничего, что указывало бы на наличие дефекта. По сути, не-обнаружение дефектов, не-восприятие их приравнивается к их отсутствию. Собственно, это является основой для выделения такого инструмента познания, как не-восприятие (абхава – abhāva ), или отрицание, не-постижение, т. е. не-существование или не-функционирование пяти инструментов познания (восприятия, логического вывода, авторитета Священного Писания, сравнения, допущения); и это то, что приводит к познанию «это не существует»5.
Здесь в полной мере раскрывается реалистический характер философии мимансы. Все, что воспринимается, составляет реально существующий мир, не-восприятие – означает отсутствие. В этом смысле мимансе свойствен реалистический, даже эмпирический характер эпистемологии.
Другие инструменты познания, которые были перечислены, а именно логический вывод, сравнение, допущение, косвенно проистекают из восприятия. Так, например, логический вывод (анумана – anumāna ) определяется как процесс, при котором восприятие одного фактора в отношениях неизменного сопутствия приводит к познанию другого фактора этих отношений, который не связан с органами чувств человека, – это и есть анумана. Сравнение (упамана – upamāna ) также приводит к познанию того, что не может быть воспринято органами чувств, однако происходит это за счет воспоминания о предыдущем опыте восприятия, т. е. при мысли о предмете, например при виде гаяла можно вспомнить корову. Допущение (артхапатти – arthāpatti ) также заключается в познании чего-либо не воспринимаемого на основе того, что предположительное восприятие конкретного для данной ситуации факта невозможно без такого допущения6.
Таким образом, восприятие и косвенно вытекающие из него такие средства познания, как логический вывод, сравнение, допущение и не-восприятие, являются от природы самодостовер-ными, не требующими дополнительных проверок для подтверждения их истинности. Значит, тезис сватах-праманьи в отношении перечисленных праман говорит о том, что любое возникшее знание всецело достоверно. Оно является таковым до тех пор, пока не будет фальсифицировано новым знанием (это, однако, не относится к знанию, полученному из Вед, которое невозможно, согласно мимансе, сфальсифицировать, об этом сказано позже).
Однако здесь возникает вопрос. Не является ли такой подход мимансы всего лишь перифразом понимания ложного познания в других школах. Как, например, в случае споров с идеали-стами1, которые утверждают, что любое восприятие ложно в силу того, что реальность объектов внешнего мира есть иллюзия, а ложная вера в реальность возможна по причине дефекта, или омраченности ума. Такое понимание ложного познания на первый взгляд схоже с точкой зрения мимансы на дефекты (в данном случае дефекты ума) как на критерии ошибки. Однако, по мимансе, в случае если мы не наблюдаем или, точнее, не воспринимаем дефект в познавательном процессе, значит, дефекта нет. Мир таков, каким мы его воспринимаем. Не-реальность внешнего мира невозможна, потому что необходим какой-либо субстрат для познавательной деятельности и работы сознания, иначе оно было бы лишено смысла. Таким образом, миманса опровергает идеалистический подход, утверждая свой реализм, имеющий эмпирический характер. С этой позиции доктрина сватах-праманьи, как показал Дж. Тэйбер, выступает выражением фундаментальной тенденции мимансы строго придерживаться внешней явленности, т. е. рассматривать то, что являет себя познающему, а не то, что может оказаться реальным (Taber, 1992: 218).
Помимо этого, следует также опровергнуть возможную мысль о том, что эпистемологическая установка мимансы имеет склонность к так называемому субъективному идеализму2. Миманса не отрицает вероятность ошибки, дефекта. Ранее мы уже обозначили три разновидности дефекта, при обнаружении или, точнее, восприятии которых последнее суждение фальсифицирует предыдущее. Так, например, предложение «оболочка желтая» может быть исключено в соответствии с дальнейшим суждением «глаза подвержены желтухе». Говоря иными словами, характер недействительности познания устанавливается тогда, когда последующее знание отменяет более раннее, например когда ошибочное суждение «это серебро» заменяется правильным суждением «это перламутр» (Keith, 1921: 18). Позже Кумарила Бхатта будет уточнять, что если имеет место неправильное восприятие, галлюцинация, то это не есть ложное познание, не есть ошибочное восприятие, а совершенно иная вещь, поскольку возникает на другой основе, а не из эпистемического инструмента. Прамана же порождает только достоверное познание.
Следует также добавить, что, если миманса придерживается тезиса сватах-праманьи, это не значит, что она отрицает сомнение. Сомнение как потенциал для исследования возможно, иначе невозможно было бы выявлять ошибки; уже самая первая сутра МС (сутра 1.1.1) начинается с такого вопрошания, которое создает возможность для постижения дхармы: Athato dhar-majijnasa 3 («А теперь - желание познать дхарму»4).
Таким образом, доктрина сватах-праманьи, утверждающая реализм мимансы, позволяет отвергать идеалистические подходы, агностицизм и, не впадая в склонность субъективного идеализма, обосновывает познавательную деятельность человека. Кроме того, важно, что за счет такой установки выстраивается мост к целенаправленному действию, главным образом к ритуальной деятельности, карма-йоге ( karma-yoga ), что является одним из самых значимых аспектов данной традиции, о чем сказано далее в этой работе.
Сватах-праманья и авторитет Вед . Мы уже рассмотрели объяснение доктрины сва-тах-праманья в рамках пяти инструментов познания на основе комментария Шабары к сутре 1.1.4 МС. Теперь изучим подробнее доктрину сватах-праманьи в отношении авторитета Священного Писания – Вед, обращаясь к сутре 1.1.5 МС и комментариям Шабары к ней. Сутра 1.1.5 МС гласит: Autpattikas tu sabdasyarthena sambandhas tasya jnanam upadeso 'vyatirekas carthe nupalabdhe tatpramanam badarayanasyanapeksatvat 5 («Однако существует вечная связь между словом и его значением, его знание – предписание, [которое никогда] не ошибается по отношению к невидимым, [не воспринимаемым органами чувств] объектам; по мнению Бадараяны, оно авторитетно по причине того, что независимо»6).
Для мимансы авторитет Священного Писания – шабда – является одной из признанных праман. Как было сказано в начале, одной из главных задач мимансы выступало обоснование авторитета Вед, особенно в период широкого распространения таких неортодоксальных школ, как буддизм, отвергающих статус последних. Доктрина сватах-праманьи, в частности, была связана с этой задачей.
В конце приведенной сутры 1.1.5 МС дается указание на то, что познание, возникшее вследствие шабды, всегда достоверно. Причем, как мы уже указывали, знание, полученное из Вед, невозможно сфальсифицировать. Объясняется это тем, что сфера его применения – дхарма ( dharma ) – находится в запредельной реальности, за рамками эмпирического опыта, следовательно, она не может быть познана людьми посредством органов чувств, так как недоступна для ранее исследованных нами инструментов познания. В связи с этим Веды, содержащие в себе предписания, выступают единственным средством познания дхармы. Это было отдельно указано в сутре 1.1.4 МС: восприятие, а значит, и остальные праманы, косвенно связанные с ним, не могут быть средством познания дхармы. Таким образом, знание, полученное из Вед, согласно доктрине сватах-праманьи в отношении шабда-праманы, во-первых, всегда достоверно, во-вторых, не поддается фальсификации.
Главными аргументами к тезису о самодостоверности шабды является тезис об отсутствии автора у Вед, т. е. о внечеловеческом происхождении Священного Писания ( apauruṣeyatva ), и вследствие этого утверждение априорного характера связи между словом и его значением. Между словом и значением в традиции мимансы утверждается вечное, никем не созданное отношение. Это отражено в сутре словом autpattika ( ut-patti – природный, врожденный; от ut-pad – возникновение, рождение) – врожденный, вечный. Следовательно, между словом и значением существует врожденная связь, которая по интерпретации мимансы ускользает от человеческого вмешательства ( apauruṣeya ) . Другими словами, утверждается идея о том, что язык, выраженный главным образом в связи между словом и значением, выступает предшествующим явлением по отношению к человеку, автору. С этой точки зрения позиция мимансы противоположна так называемым конвенциальным теориям значения, характерным, например, для ньяи и раннего буддизма (Васубандху, 2006: 5).
Вечный характер связи слова и значения отвергается противниками мимансы заявлением о том, что не существует таких людей, которые бы понимали смысл тех слов, отношение которых к значению не было бы когда-то установлено. Если бы они понимали значение таких слов, отношение которых к значению было бы вечным, т. е. не установленным когда-то, то они бы понимали это изначально, услышав их первый раз, т. е. еще в раннем детстве. Но такого не наблюдается. Следовательно, поэтому необходим был человек, который установил бы отношение между словами и значениями1.
По сути, позиция оппонента состоит в том, что признается наличие слов, у которых отсутствует какое-либо отношение к значению, т. е. слов самих по себе, к которым уже позднее некто создает связь со значением. На это миманса отвечает, что точка зрения оппонента неверна, потому что словам присуща сила обозначения их значения, последнее не может подлежать сомнению. Это то, что подразумевается под термином «упадеша» ( upadeśaḥ ) в сутре 1.1.5 МС2. Upadeśaḥ ( upa-deśa ) в переводе с санскрита – наставление, предписание, т. е. бесспорное указание. Следовательно, утверждается неопровержимое вечное отношение между словом и значением, которое не может быть установлено когда-либо кем-либо и которое имеет императивный, обязательный и неоспоримый характер, что выражается в авторитетном наставлении.
Далее иллюстрируется пример для подтверждения этой позиции. Мы можем наблюдать, как старшее поколение использует слова в повседневной жизни, а молодые люди, слыша эти слова, пытаются их понять. Это же старшее поколение людей, когда они были молоды, постигали слова, используемые предыдущим поколением, в то время как последние также понимали их от еще более раннего поколения людей и т. д.; процесс шел без какого-либо начала во времени. Данный аргумент подкрепляется тем, что процесс передачи реально воспринимается нами, мы сами видим, как слова перенимаются и изучаются молодым поколением от старшего. Существует факт прямого восприятия этого процесса, в то время как оппонент лишь предполагает некоего создателя. Это так называемая «теория использования», излагаемая Шабарой3. Кроме того, можно добавить, что сам факт не-восприятия автора является основанием утверждения его отсутствия.
Помимо этого, выделяется еще один аргумент, подтверждающий врожденную связь слова и значения, заключающийся в том, что само действие по созданию, установлению отношения между словом и значением было бы невозможно без признания этой связи вечной. Если бы некий создатель и приступил бы к установлению отношения, он бы смог сделать это только с помощью слов, у которых уже должно было быть смысловое наполнение. Поэтому возникает вопрос: кто создал отношения слов со значением, которые создатель использует при создании нового отно-шения?1 Следовательно, чтобы установить соглашение, действительно потребуются слова, например «x означает это», «y означает то». Слова также потребуются, чтобы передать такое соглашение другим людям. Следовательно, публичность языка свидетельствует о его независимости от любого автора (Freschi, 2017).
Таким образом, поскольку отношение между словом и значением не создано человеком, поскольку оно независимо ( anapekṣatvāt ), постольку шабда является признанным источником познания – праманой, транслирующей априорно достоверное знание, не нуждающееся в дополнительных внешних факторах для подтверждения его истинности, что выражает идея сватах-пра-маньи, или идея внутренней достоверности знания.
Понимание знания в доктрине сватах-праманьи. «Тонкий прагматизм» . Разъяснив главные аспекты доктрины сватах-праманьи в отношении пяти инструментов познания во главе с восприятием, а также в отношении самого важного эпистемологического инструмента мимансы, инструмента познания дхармы – Вед, рассмотрим вопрос о знании как таковом, а именно о характере знания, утверждаемом данной доктриной, что позволит глубже понять идею сватах-пра-маньи. Для этого обратимся снова к ШБ – комментарию на сутру 1.1.2 МС, где встречаем следующий отрывок2:
«(Возражение) Предписание может указывать и на несуществующее, подобно обычному высказыванию, как, например, “На берегу реки лежат плоды”. Это может быть так, и не так.
(Ответ) На это мы говорим: слова “он говорит” и “это не верно” противоречат друг другу. “Он говорит” означает “дает возможность узнать”, т. е. являются признаком познающего. То, при наличии чего как признака происходит познание, то дает (возможность) познания. Если при наличии предписания (есть возможность) узнать: “Посредством агнихотры приобщаются к небу”, то как можно говорить: “Это не так”. Если это, напротив, не так, то откуда это можно знать? Поэтому говорить: “Он узнает несуществующую вещь” – значит впадать в противоречие. Да и (положение) “Жаждущий неба да приносит жертвы” также дает не сомнительное знание (когда рассуждают так) “Приобщается человек к небу или нет”. Если это известно твердо, то не может оказаться ложным. Ибо (знание), которое возникнув, превращается в свою противоположность, когда имеется в виду “это не так”, есть ложное знание. А это знание, о котором идет речь, не превращается в свою противоположность у другого человека при другом состоянии или в другом месте. Поэтому оно не ложно»3.
В приведенном отрывке говорится о противоречии в случае, если оппонент пытается отрицать познанное. Факт познанного подразумевает, что высказывание Вед передает знание, является причиной знания, или признаком познания. В отрывке это передано словом avabodhayati , где ava-bodha – осознание, восприятие, знание, решительное суждение4. Следовательно, avabodhayati говорит о том, что высказывания Вед дают возможность узнать (или осознать, воспринять, познать, понять) некоторый факт. Более того, добавляется, что понимание, восприятие этого знания является определенным, «известно твердо», что передано словом niścita – уверенно, определенно, точно, т. е. подразумевается недвусмысленность высказывания, четкость и определенность смысла. Так, в ШБ добавляется следующее: «Высказывание “Желая неба, следует совершать жертвоприношения” не является сомнительным; т. е. это не такая форма высказывания как “Посредством жертвоприношения небеса могут быть достигнуты или не могут быть достигнуты”»5.
Таким образом, в этом отрывке фигурирует указание на то, что высказывания Вед передают знание ( avabodhayati ), т. е. человек воспринимает, познает нечто, являющееся определенным, недвусмысленным ( niścita ), что передается посредством грамматики предложения.
Противоречие заключается в том, что, познав высказывание, содержащее определенный смысл, и познав это «твердо», как лингвистически недвусмысленное высказывание, мы не можем заявлять об обратном, иначе это будет противоречить только что зафиксированному знанию: «Ибо (знание), которое возникнув, превращается в свою противоположность, когда имеется в виду “это не так”, есть ложное знание»1.
Здесь мы сталкиваемся с тем, что само понятие знания приобретает определенную характеристику. Классическое понимание знания, происходящее, в частности, из западной аналитической философской традиции, как истинного обоснованного мнения ( justified true belief ) расходится с тем, как знание постулируется в мимансе2. Рассмотрим это подробнее.
Сватах-праманья одинаково относится к высказываниям как Вед, в частности «Желающий достичь небес должен совершать жертвоприношение», так и человека, не имеющего при этом дефекта когнитивного инструмента, который, например, увидев горшок, говорит: «Это горшок!» Согласно доктрине сватах-праманьи, признается одинаковая первоначальная истинность и очевидность этих высказываний. Соответственно, методологический подход к истинности данных знаний-высказываний должен быть одинаковым. «Желающий достичь небес должен совершать жертвоприношение» – истинно. «Это горшок!» – истинно.
Разберем для начала пример с восприятием горшка, чтобы затем аналогично обратиться к высказыванию Вед. Такой пример приводит Сучарита Мишра ( Sucarita Miśra , X–XI вв.) в трактате «Кашика» ( Kāśikā ) (последний является комментарием на Шлокаварттику Кумарилы Бхатты), где сказано, что мы не воспринимаем горшок, который вступил в контакт с нашими органами чувств, таким образом, чтобы думать «это может быть горшок, а может быть и нет» (Arnold, 2001: 30). Скорее осознание горшка возникает как сущностно определенное, т. е. такое, что при восприятии мы сразу же думаем: «это горшок!» Следовательно, наше утверждение, в данном случае по факту восприятия горшка, является для нас безусловной определенностью, истиной.
Здесь же раскрывается следующий важный момент, вытекающий из идеи сватах-праманьи, а именно характерный для мимансы «тонкий прагматизм», или устремленность к результативному действию. Знание в мимансе концентрируется не вокруг проблемы обоснования истинности, но вокруг проблемы его полезной, результативной работы – артхакрия ( arthakriyā/arthakriyatva – работа, совершаемая целенаправленно, результативно, полезная деятельность; где artha – предмет, значение, цель; kriyā – действие, работа). Знание должно работать, иначе оно бессмысленно. Истинность знания пересекается с его эффективностью. Это является одним из важных аспектов философии карма-мимансы как философии действия.
В примере с горшком это выглядело бы так: только принимая истинность своего знания, выраженного в утверждении «Это горшок!», мы можем произвести с ним операции, например посадить цветы. Если наше знание является сомнительным, то никакой полезной, результативной работы не совершается. Ценность знания состоит в удовлетворении запроса, успешной деятельности, а не в его вторичной, внешней обоснованности, которая к тому же является проблематичной, как уже сказано ранее.
С этой точки зрения даже ошибочно познанное серебро, принятое ранее за настоящее, как и правильно познанное серебро, видится способствующим полезной работе, в то время как в сомневающемся сознании нет смысла. Оно статично и не содержит потенциала для дальнейшего действия. Основная позиция мимансы здесь могла бы звучать так: мы должны в какой-то момент допустить достоверность некоторого знания, если вообще хотим претендовать на какое-либо знание. Таким образом, обнаруживается важный принцип идентификации знания в мимансе – принцип результативности, устремленности к полезному, целенаправленному действию, или принцип «тонкого прагматизма»3, что расходится с пониманием знания как обоснованного истинного мнения.
Знание располагается в контексте действия, что передается, как уже указано ранее, словом «артхакрия». Помимо этого, также встречается понятие «вьявахара» (vyavahāra) – деятельность, действие, практика, обычай, поведение: «Поэтому, как только (едва) возникнет знание, то сразу же имеет место быть практика (деятельность) ( vyavahārapravṛttir ) в ряду всех субъектов познания – держателей достоверного знания. Ибо даже ошибочно познанное серебро, как и правильно познанное серебро, видится ведущим к полезному (результативному) действию ( arthakriyāyai )»1 (Arnold, 2001: 30).
Интересно отметить, что в рамках исследований индийской философии об этом также писал американский индолог К. Поттер (1927–2022 гг.). По его мнению, сватах-праманья предполагает, что все заставляющее нас осознавать нечто, некоторый факт, заставляет нас осознавать, что это нечто может достигнуть своей цели, т. е. может привести к успешной, результативной деятельности соответствующего рода (Potter, 1984: 317). Само понимание знания, точнее истинного знания – праманьи, К. Поттер соотносил с категорией «действенность», или «работоспособность» ( workability ) (Potter, 1984: 318).
Вывод . Несмотря на описанный реалистический и даже эмпирический характер философии мимансы, эта школа мысли постулирует существование нечто невоспринимаемого человеком, того, к чему он должен стремиться и познавать, – дхармы. Это становится возможным посредством единственного доступного инструмента познания – Вед, через вечную силу слов, авторитетные наставления Священного Писания. Вряд ли можно оценить мимансу как сугубо реалистическую, эмпирическую школу в грубом смысле. Да, с одной стороны, она реалистична в вопросах человеческого познания наличного мира, человеческого бытия в этом мире, человеческой деятельности, ориентируясь на прямое восприятие объектов. Однако, с другой стороны, будучи одной из ортодоксальных религиозно-философских систем Древней Индии, она несет в себе знание запредельного и опирается на него, происходит из него. Реализм мимансы работает на познание запредельного. Не устройство мира ограничено и составляет лишь то, что воспринимаемо человеком, но человек ограничен в своих познавательных возможностях, но этих возможностей достаточно, чтобы разглядеть вектор, которому нужно следовать и который выстраивает теория познания мимансы.
Доктрина сватах-праманьи, иначе – внутренней достоверности знания, – краеугольная доктрина эпистемологии карма-мимансы. Ценность знания в рамках такой эпистемологической установки состоит в его способности приводить к результату, в побуждении к полезной, целенаправленной деятельности («тонкий прагматизм» мимансы), что расходится с методологией внешнего обоснования знания, свойственной доктрине паратах-праманья, а также с интерпретацией знания как обоснованного истинного мнения, частично присущей западной аналитической философской традиции. Сватах-праманья открывает путь для совершения действия, потенциал для достижения цели, ведь даже ошибки порой бывают более полезны, чем попытки бесконечного обоснования, которые в реальности ни к чему могут так и не привести.
Список литературы Эпистемологическая доктрина сватах-праманья мимансы
- Васубандху. Энциклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша) / сост., пер., коммент., исследование Е.П. Островской, В.И. Рудого. СПб., 2006. 523 с.
- Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию / пер. с англ. А. Радугина, Е. Тучинской и А. Романенко. М., 1955. 380 с.
- Arnold D. Buddhists, Brahmins, and Belief. Epistemology in South Asian philosophy of religion. N. Y., 2005. 328 p.
- Arnold D. Of Intrinsic validity: A study on the relevance of Purva MTmamsa // Philosophy East and West. 2001. Vol. 51, no. 1. P. 26-53. https://doi.org/10.1353/pew.2001.0002.
- Bilimoria P. Sabdapramana: Word and knowledge in Indian philosophy. New Delhi, 2008. 413 p.
- Freschi E. MTmamsa // Routledge history of Indian philosophy / ed. by P. Bilimoria, J.N. Mohanty, A. Rayner, J. Powers, S. Phillips, R. King, C. Key Chapple. L.; N. Y., 2017.
- Hiriyanna M. Outlines of Indian philosophy. Delhi, 1993. 419 p.
- Keith A.B. The Karma-MTmamsa. L., 1921. 112 p.
- McCrea L. The transformations of MTmamsa in the larger context of Indian philosophical discourse // Periodization and historiography of Indian philosophy / ed. by E. Franco. Wien, 2013. P. 127-143.
- Potter K.H. Does Indian epistemology concern justified true belief? // Journal of Indian Philosophy. 1984. Vol. 12, no. 4. P. 307-327.
- Taber J. A Hindu critique of Buddhist Epistemology: Kumarila on perception. The "Determination of Perception" chapter of Kumarila Bhatta's Slokavarttika: Translation and commentary. L.; N. Y., 2005. 288 p.
- Taber J. What did Kumarila Bhatta mean by Svatah Pramanya? // Journal of the American Oriental Society. 1992. Vol. 112, no. 2. P. 204-221. https://doi.org/10.2307/603701.