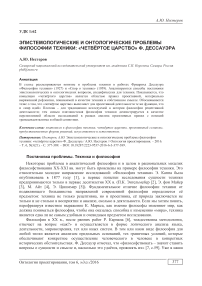Эпистемологические и онтологические проблемы философии техники: "Четвёртое царство" Ф. Дессауэра
Автор: Нестеров А.Ю.
Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing
Рубрика: Философские аспекты проектной деятельности
Статья в выпуске: 3 (21) т.6, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятие и проблема техники в работах Фридриха Дессауэра «Философия техники» (1927) и «Спор о технике» (1959). Анализируются способы постановки эпистемологических и онтологических вопросов, специфических для техники. Показывается, что концепция «четвёртого царства» является областью правил проективной, материально выраженной рефлексии, понимаемой в качестве техники в собственном смысле. Обосновывается тезис о том, что «четвёртое царство» выполняет для проективной деятельности те же функции, что и «мир идей» Платона - для традиционно исследуемой в истории философии рецептивной деятельности; тем самым платонистская философия техники демонстрируется в качестве перспективной области исследований в рамках анализа проективных правил с позиций трансцендентализма и общей семиотики.
Платонизм в философии техники, четвёртое царство, проективный семиозис, предустановленные формы решений, искусственное и естественное
Короткий адрес: https://sciup.org/170178730
IDR: 170178730 | УДК: 1:62 | DOI: 10.18287/2223-9537-2016-6-3-377-389
Текст научной статьи Эпистемологические и онтологические проблемы философии техники: "Четвёртое царство" Ф. Дессауэра
Постановка проблемы. Техника и философия
Некоторые проблемы в аналитической философии и в целом в рациональных моделях философствования XX-XXI вв. могут быть прояснены на примере философии техники. Это относительно молодое направление исследований: «Философия техники» Э. Каппа была опубликована в 1877 году [1], а первые попытки исследования сущности техники предпринимаются только в первые десятилетия XX в. (П.К. Энгельмейер [2], Э. фон Майер [3], М. Айт [4], Э. Цшиммер [5]). Фундаментальное отличие философии техники от подавляющего большинства направлений современной философии определяется её предметом: техника не только рецептивна, но и проективна, её природа заключается не только и не столько в восприятии и анализе, сколько в деятельности. Если мы хотим понять, перефразируя известное выражение К. Маркса, как именно философы изменяют мир, как должна пониматься философия, чтобы она оказалась способна к изменению «мира», техника является едва ли не самым удобным и очевидным предметом исследования.
Философия в XX в., после ранних работ Р. Карнапа [6], тождественна методологии, отвечает на вопрос «как?» и осуществляется в форме логического анализа языка, деятельности, мировоззрения, тех или иных систем. В том или ином виде философия для любой эпохи является анализом предельных оснований, тех граничных условий, которые обеспечивают конкретное осуществление человеческого в человеке в конкретных исторических обстоятельствах. Ф. Дессауэр отмечал, что «философствовать - значит ставить вопросы о сущности и смысле и, насколько это удаётся, прояснять их» [7, с.59]. Уже в наши дни В.П. Горан предложил убедительное и исчерпывающее определение философии в качестве «рефлексивной метамировоззренческой теории» [8, 9].
Философствование в любом виде задаётся исходным пониманием человеческого и человека. Ответ на вопрос, что есть человек, является исходной предпосылкой любого философского построения. Прояснить этот вопрос довольно просто через оппозицию «человек - природа»; в ней человек - это либо сугубо воспринимающее существо, либо существо действующее, соответственно человеческое определено либо только рецептивными процедурами, либо рецептивные процедуры дополняются проективными, деятельностью того или иного рода. Эту оппозицию вполне удачно показывает популярная в последней трети XX в. и в начале XXI в. литература, иллюстрирующая быт и мировосприятие примитивного, доисторического человека: К. Кастанеда, например, рисует образ «нагваля», воспринимающего мир особенным, сверхчеловеческим способом и отличающегося от человека как такового сложностью восприятия; В. Сёркин, напротив, показывает образ «шамана», действующего в условиях первобытной природы и отличающегося от среднего человека навыком, способностью к определённого рода деятельности [10]. В соответствии с этой оппозицией философствовать - значит извлекать предпосылки либо восприятия, либо навыков практического действия, так что и любое из приведённых определений философии может быть развёрнуто либо в одну, либо в другую сторону.
Техника на фоне оппозиции действующего и воспринимающего человека представляет собой своего рода общую территорию, в которой объединены и переплетены навыки восприятия и деятельности, которая имеет вполне конкретное отношение к сущему (реальности как она есть сама по себе), определённый порядок отношений своих элементов, определённые механизмы развития и деградации. Как говорит Ф. Дессауэр, «техникой называется создание и стремительно увеличивающийся инвентарь таких1 предметов и технологий» [7, с. 109]. Техника, будучи объективацией человеческих способностей и навыков, позволяет многое прояснить в философском знании, показать практическую применимость или же, наоборот, абсурдность тех или иных построений.
Классические проблемы философского знания, на фоне которых философия с момента своего возникновения показывает границы (и расширение границ) человеческого, это воля, истина, красота, добро, польза (включая ценность). Этот список использует, например, П.К. Энгельмейер, чтобы показать возможности определения технической воли и технического мировоззрения [2, с.92-96], до него подобный перечень был предложен В. Виндельбандом. Ценность техники в качестве предмета философского исследования заключается в том, что здесь впервые появляется возможность исследовать процессы, происходящие в человеке, как вызванные не некоторыми природными данностями, то есть естественными, не обусловленными человеческим разумом и волей событиями, но их искусственными субститутами, созданными и определёнными посредством разума и воли человека. Например, в области эстетики именно техника впервые позволяет сравнить переживание прекрасного, как оно вызывается закатом, рассветом, пейзажем, физической данностью какого-то природного объекта, с переживанием, которое возникает при созерцании статуи, собора, чтении поэтического произведения и т.п. В области этики - это направление становится всё более популярным в последние годы - сравнивается долженствование (системы ценностей), как оно реализуется в естественных человеческих сообществах, и искусственно заданные правила поведения агентов в мультиагентных системах [11-13] и т.п. В области логики - это наиболее хорошо исследованная в последнее столетие область - актуальным является анализ осуществления естественных законов логики, синтаксических правил естественных языков, тех натуральных форм мышления, которые оказываются непротиворечивыми в силу природы мышления как такового на фоне обусловленного «новой логикой» в смысле Венского кружка математического и кибернетического построения искусственных языков, в которых используются искусственные алфавиты, искусственные правила вывода, за счёт которых создаются неприродные программные системы и среды. Примером расширения логического исследования за счёт техники является соотношение корреспондентской и когерентной теорий истины: если применение корреспондентской теории ограничивается для индивидуального субъекта принципом привилегированного доступа к объектам собственного сознания, то когерентная теория, выражая системы межсубъектных синтаксических правил, абстрагируется от конкретного субъекта, показывает объективность истинностного отношения и подтверждается осуществлением этого отношения в артефактах. Здесь, как и в областях онтологии, теории познания и праксиологии, техника впервые позволяет добиться объективности, общезначимости, ясности и воспроизводимости человеческого знания как такового.
Одно из наиболее удачных определений техники предложено Ф. Дессауэром в 1959 г. в работе «Спор о технике»: «Техника есть реальное бытие из идей посредством финалистского формирования и обработки из данного природой инвентаря» [7, с. 115]. Анализ этого определения позволяет прояснить не только общефилософский контекст исследования техники как мира искусственных объектов, располагающегося между естественным, природой и внутренним, описываемым в терминах res cogitans, интенциональности, квалиа, души и духа, но и некоторые проблемы аналитической философии техники [14, 15], в частности, проблему значения, проблему существования и применения правил. Сам Ф. Дессауэр характеризует это определение с онтологической, эпистемологической и праксиологической точек зрения и показывает его потенциал в контексте аксиологии и эстетики.
1 Техника в контексте онтологии и эпистемологии
Онтология техники включает в себя большое число вопросов. Собственный вопрос онтологии - это вопрос о существовании реальности безотносительно к какому-либо способу учёта, фиксации или восприятия этой реальности каким-либо субъектом. Самая короткая формулировка онтологического вопроса предложена У. Куайном: «Что есть?» [16]. В аналитической философии он формулируется методологически: «Что значит быть?», «Что значит существовать?», «Что значит быть реальным?». Применительно к аналитической философии техники список онтологических вопросов формулируется следующим образом: «Что значит быть техническим объектом?», «Что значит быть технической средой?», «Каковы способы существования технического объекта и технической среды?», «Чем технический, искусственный способ существования объектов и сред отличается от природного, естественного, с одной стороны, и от фантазии, вымысла, инобытия, с другой стороны?».
Уникальность техники на фоне традиционного контекста онтологии легко увидеть, если сформулировать известные ответы на вопрос о существовании. Существовать - значить быть воспринимаемым, значением переменной, учитываемым тем или иным способом [17]. Наблюдаемый объект, с одной стороны, правило (математические или логические объекты) -с другой и фантазия (художественный образ в творческом сознании поэта или читателя поэтического текста) - с третьей, существуют различными способами. Наиболее «сильный» критерий существования - это наблюдаемость, именно наблюдаемость свидетельствует о подлинности существования, начиная с Дж. Беркли [18] и вплоть до современной материалистической науки. Наиболее «слабый» - «учитываемость» вымыслом и фантазией: он был высмеян еще у Платона [19] и оказывается попросту запрещённым в любого рода проработанном религиозном сознании, от индуизма до ислама и христианского протестантизма. «Средняя» область существования правил трактуется после Платона либо в качестве исходного мира божественного бытия, в качестве мира математических объектов, материальное осуществление которых создаёт те или иные наблюдаемые объекты, - эту точку зрения легко перенимает экспериментальная наука с Г. Галилеем, либо после И. Канта [20] - в качестве способа организации человеческого познания, объективирующего и опредмечивающего реальное на основе трансцендентальных форм, то есть существующих особым внутренним образом правил.
Технический объект - изначально не наблюдаемый объект. Технический объект должен быть осуществлён (человеком), чтобы он существовал. Он должен быть изобретён, то есть оформлен средствами фантазии и вымысла, затем приведён к некоторой логической форме, имеющейся в распоряжении изобретателя, а затем обработан руками и инструментами. Ф. Дессауэр связывает осуществление технического объекта с тремя фундаментальными способностями человека: человек изобретающий (investigator), человек внедряющий (inventor), человек обрабатывающий (faber): изобретение, внедрение и обработка позволяют техническому объекту существовать [7, с.68-70]. Таким образом, онтология технического объекта в аналитической части, при реконструкции значения вопроса «что значит существовать?» оказывается более сложной, нежели исследование бытия естественных объектов и процессов, вынуждает использовать весь наработанный философами потенциал для фиксации сущности технического. Если же последовать за Ф. Дессауэром в том, что наука становится наукой тогда и только тогда, когда начинает использовать технику для измерительного эксперимента, то можно утверждать, что всякое научное знание последних трёх веков является техническим знанием и способно показать реальный мир ровно в той мере, в какой этот мир технически осуществим человеком.
Рассуждение Ф. Дессауэра о смысле техники (в контексте аналитической философии правильнее было бы говорить «о цели техники») хорошо коррелирует с рассуждением П.К. Энгельмейера о неприменимости теории эволюции Ч. Дарвина к описанию человека и человеческой истории [2, с.91-92]. Человек не приспосабливается к среде, человек изменяет среду таким образом, чтобы она соответствовала его потребностям. Это верно в отношении человеческого вида в целом, поскольку индивид по определению не может являться ни объектом, ни субъектом эволюции в дарвиновском смысле. Практическое изменение среды есть следствие саморазвития человека посредством техники. Действительно, то новое, которое фиксируется человеком в практике естественнонаучного, художественного и исторического познания, создаётся самим человеком: новые предметы, новые художественные и математические языки, новые системы ценностей, - причём во всех случаях речь идёт о технике как месте появления нового. Ещё один взгляд на ситуацию появления новой искусственной среды за счёт технического развития даёт оригинальное рассуждение Ю.М. Лотмана о сущности автокоммуникации [21, с.168-177]. Если представить себе время как канал осуществления коммуникации, а человечество, человеческий вид - в качестве глобального субъекта коммуникации, то окажется, что человечество коммуницирует только с самим собой, постоянно оставляет самому себе сообщение во времени, само его принимает как сообщение, расшифровывает и изменяет себя под влиянием отправленного самому себе сообщения. Человечество создаёт новые технические объекты из самого себя в оппозиции естественной природе, последовательно подменяя последнюю искусственной природой. Сложение сил технических объектов создаёт новую сверхъестественную среду, и в этой новой среде возникают новые механизмы осуществления человеческого, новые способы построения технических объектов, новые формы художественного, науки, этики и т.д. Этот вопрос довольно подробно рассмотрен [22, 23] в рамках анализа эволюции техники от первой естественной природы ко второй и третьей искусственной природе. Сейчас подчеркнём, что в рамках онтологии техники искусственная среда, понятая через сумму нарушений, внесённых каждым отдельным техническим объектом в мир естественной природы, - это то, что меняет, в том числе, и способ самопонимания человека, характер его рефлексии относительно восприятия и деятельности, характер этического долженствования. То, что немецкие, а затем советские школы философии исследуют в качестве мировоззрения, фактически есть техническая среда человека, формирующая и ограничивающая его горизонты. Соотношение исторической трансформации мировоззрения, например, в смысле В. Дильтея [24], и эволюции технических сред с их предельно конкретной онтологией, выраженной в границах фантазии, рассудочных структур, материально осуществимого, еще предстоит проработать: Ф. Дессауэр сходным образом предложил посмотреть на науку как на деятельность, опосредованную и ставшую возможной благодаря технике; в значительной степени этот подход реализуется сейчас в терминах социологии науки, в историческом методе технологической реконструкции, в математическом моделировании истории науки (и даже классической политической истории) на фоне истории техники.
Эпистемология техники , как и эпистемология в целом, - это наиболее ясная из всех возможных философских дисциплин. Она включает в себя ответы на вопросы об определении акта познания, о доступе познающего субъекта к реальности, об определении знания, о причинах и способах расширения познания и знания. Ф. Дессауэр подчёркивает, что техника - технические объекты и среды - своим существованием снимает предмет классической дискуссии о доступе индивида к реальности. Сущность этого спора заключается в вопросе, имеет ли человек доступ к реальности как она есть сама по себе в акте познания, если познание определено в виде интериоризации «внешнего мира». Технический объект всегда осуществляется на основе знания о реальном, как оно доступно человеку: чем выше уровень этого знания, тем сложнее объекты, которые могут быть построены на его основе; технический объект всегда исполняет законы природы. Нюанс в том, что всякий технический объект, будучи однажды изобретённым, в дальнейшем функционирует как элемент воспринимаемого мира, наряду с естественными объектами. Это означает, что человек имеет доступ к реальности в той мере, в какой он способен создавать не просто субституты естественных объектов, но новые объекты, «существующие» для его систем восприятия ровно тем же способом, что и нетехнические, природные объекты: наблюдаемый полевой цветок растёт сам по себе, является природным объектом, вместе с тем, колесо или лопата воспринимаются точно так же, как и полевой цветок, хотя и являются искусственными объектами. Этот пример (Ф. Дессауэр говорит о микроскопе на фоне растения или фрукта [7, c.104]) с эпистемологической точки зрения показывает ряд крайне значимых моментов. Во-первых, человек обладает знанием как системой обоснованных истинных убеждений о чём-то тогда и только тогда, когда он в состоянии это нечто воспроизвести в качестве технического объекта - в этом смысле наше знание природы на фоне знания технических искусственных объектов и процессов по определению неполно и будет таковым всегда при любых обстоятельствах. Человек может сейчас промоделировать многие природные и исторические процессы, однако отнюдь не все модели могут быть осуществлены в виде технических объектов. Во-вторых, объективное знание о естественном, о природе ограничено техникой. Наука, понимаемая в качестве соединения чувственного восприятия и логического анализа [25], становится наукой благодаря техническому измерительному эксперименту, легитимирующему индуктивный метод познания. В-третьих, об истории мы знаем только то, что было технически осуществлено нашими предками и только в той мере, в какой их технические методы эквиваленты сегодняшним методам, то есть понятны представителям нашей эпохи. Последний момент раскрывает крайне продуктивное применение методов герменевтики в истории техники и истории как таковой.
Наиболее важный для эпистемологии техники вопрос заключается в том, откуда человек собственно черпает сведения о конкретных технических формах, посредством которых может быть удовлетворена его потребность, желание или фантазия. Что собой представляют «идеи», позволяющие техническому объекту стать реальностью в определении техники Ф. Дессауэра? Аналогичный вопрос в общей эпистемологии - откуда вообще берётся форма индуктивного обобщения в случае индуктивного вывода, или что такое гипотеза, как она возможна, что является её основанием?
С точки зрения определения рецептивного, нетехнического познания ответ на этот вопрос демонстрируется уже Платоном и с тех пор практически не претерпевает серьёзных изменений, составляя классический предмет истории онтологии, эпистемологии и философии языка через спор номинализма и реализма, рождение семиотики в качестве общей теории интерпретации, формирование собственно теории познания на фоне Лейбнице-Вольфовской метафизики и т.д. Когда обнаруживается, что способ мышления об объекте - логическая форма, в которую включён предмет в индивидуальном мышлении, или языковая форма, посредством которой объект оказывается обозначен в той или иной ситуации коммуникации, - не совпадает ни с объектом, ни с порядком обнаружения этого объекта чувственным восприятием (проф. М.В. Лебедев2 любил на своих лекциях задавать вопрос, отчего такое большое животное как слон, обозначается таким коротким словом «слон»?), возникает онтологическая проблема существования правил мышления и языка и эпистемологическая проблема соотношения мышления и языка, с одной стороны, и фиксируемых чувственным восприятием объектов, с другой стороны; кроме того, и соединение онтологии и эпистемологии заставляет задать метафизический вопрос о том, есть ли, например, в слоне что-то реальное, такое, которое находится за пределами его восприятия, мышления и говорения о нём.
Превращение самостоятельно существующего мира идей, постижимых средствами логики и математики, в систему трансцендентальных правил деятельности позволило по-новому поставить вопрос о человеке, о его отношении к реальности, о материи. Обсуждение этого вопроса в целом вывело бы слишком далеко за пределы вопроса о технике. Отметим, что влиятельным развитием платонизма в XX в. является плюралистическая онтология К.Р. Поппера [26], выделяющая отдельно мир физических объектов, мир ментальных состояний и третий мир языка. Эквивалентом мира Платоновых идей, мира математических объектов или правил является мир языка. В отличие от Платона, множество элементов третьего мира Поппера бесконечно и может увеличиваться посредством деятельности человека. Важно, что и здесь - на материале научных теорий, процедур установления их истинности и ложности, эволюции научного знания - показана невыводимость одного мира из другого, самостоятельный характер различных способов существования в виде физических объектов, эмоциональных состояний и переживаний и научных теорий. Фундаментальный вопрос теории познания формулируется и здесь: «как осуществляется познание?», «как взаимодействуют различные миры?», «как они отображаются друг в друге?».
Решение фундаментальной проблемы познания в классической рецептивной эпистемологии связано с концепцией отображения форм одного мира на формах другого мира: для Античности математическая идея отпечатывается в материи, отображая в ней свою форму; для средневековой и во многом новоевропейской философии фигура «бога» опосредует в том или ином виде соотнесение чувственного и умопостигаемого; для аналитической философии в версии Л. Витгенштейна грамматика изоморфна структурам наблюдения и т.п. Ф. Дессауэр также ссылается на концепцию отображения или «отражения» реального мира в духе [7, с. 100-105.]. Представление о познании как отображении одной системы на другой - один из наиболее значимых результатов европейской философии. Это отображение может мыслиться как «внешнее» и как «внутреннее». Если оно берётся как внешнее отношение, то «реальным миром», отображаемым во «внутреннем мире», оказывается более сложная, содержащая большее количество элементов система, отображающаяся на более простой, содержащей меньшее количество элементов системе: в качестве такого рода реальности выступает, в зависимости от автора концепции и от эпохи, либо мир физических объектов, либо мир правил (божественный). Если же отображение берётся как внутреннее, внутрисистемное отношение, то «реальным миром» оказывается бесконечно большое количество правил, выражаемое и показываемое каждой из систем, участвующих в познании, а «внутренним миром» - та сумма правил, которая известна человеку в рецептивном и проективном смысле. Модель в истории философии, которая показывает указанное отображение миров друг в друге в акте познания в качестве внутрисистемного отношения, - это трансцендентализм. С точки зрения трансцендентализма в его рецептивном выражении проблема доступа к реальности, равно как и проблема материи, остаются метафизическими проблемами, неразрешимыми до тех пор, пока рецептивное направление познания не будет рассмотрено на фоне проективного, конструктивного познания. Именно техника как материально выраженная проективная рефлексия позволяет в данном случае создать набор проверяемых следствий, подтверждающих онтологические предпосылки трансцендентализма. Трансцендентальная философия, которую исторически возводят к И. Канту, фактически осуществляется в истории философии, начиная с А. Августина, как семиотика, общая теория знаков, претендующая на единообразное описание процедур познания, коммуникации и понимания в терминах синтаксических, семантических, прагматических правил и способов их взаимодействия в реальных, выраженных в той или иной материи сущностях.
До тех пор, пока познание рассматривается сугубо рецептивно, проблемы формы отображения одной системы на другой довольно трудно увидеть в качестве проблемы, и эта трудность приводила в истории философии к метафизике, умножению сущностей и трудно воспроизводимым онтологическим конструкциям. Когда познание рассматривается проективно, в качестве процедуры создания технического объекта - а любой создаваемый человеком «объект» является техническим объектом, изобретённым в фантазии, воплощённым сначала в логическую форму, а затем выраженным в материи физического мира - проблема отображения друг в друге слоёв сознания в смысле немецкого идеализма или взаимодействия миров в смысле К.Р. Поппера становится предельно ясной и открытой. Ф. Дессауэр во многих местах подчёркивает, что в идеале каждой фантазии должно соответствовать только одно техническое решение, и это решение, по его мнению, принадлежит не человеку, но космосу, порядку мироздания. Это соответствие он формулирует в концепции «четвёртого царства», названного им так в продолжение трёх «царств» И. Канта: «царства опытного познания», «царства воли и нравственного закона», «царства эстетического и целесообразного [des Zweckmaessigen]» [27, с.50]: «Тройного деления мира по Канту недостаточно. В четвёртом царстве мы вступаем в новый мир, заключающийся в технике» [27, с.57].
2 «Четвёртое царство» Ф. Дессауэра
Что это значит, что техника составляет новый мир? Можно ли проследить его новизну, его открытие человеком не в доисторических временах, а в процессах взросления, воспитания, то есть в процессах роста самосознания, духовного роста? Если уже понятно, что техника как деятельность - это материально выраженная рефлексия, осуществляемая человеком процедура самопознания, то ответ очевиден. Человек за пределами некоторых частных случаев автоматического восприятия и рефлекторной неосознаваемой деятельности является рефлексирующим существом. Открытие осознанной и управляемой рефлексии как механизма становления человека человеком маркирует переход от мифологического, архаического мировоззрения к религиозному. Открытие возможностей внетелесной (К.Р. Поппер сказал бы «экзосоматической») рефлексии - и есть открытие техники «как мировой силы», которое прокладывает путь к научному, а с середины XX в. - к инженернотехническому мировоззрению (в смысле П.К. Энгельмейера).
В работе «Спор о технике» Ф. Дессауэр [7, с.83-85] предлагает шесть тезисов з относительно «четвертого царства» .
Современные критики, презрительно или недоуменно отмежевывающиеся от концепции «четвертого царства», большей частью просто не знакомы с текстом Ф. Дессауэра (или не способны изложить его так, чтобы это знакомство стало очевидным для информированного читателя). Тезисы Ф. Дессауэра и приведенные рассуждения показывают, что философия техники за счет специфического соединения онтологии и теории познания позволяет не только прояснить классический спор о реальности и действительности, но и в значительной степени прояснить фундаментальную проблему этики, заключающуюся в несоответствии сущего (действительного) и должного (возможного). Если искать адекватные параллели для проблем, пробным решением которых является концепция «четвертого царства», то они обнаруживаются в целом в философии творчества, как с филологической или в целом историко-художественной стороны, так и с психологической. Анализ «предустановленных форм решений» в технике следует сопоставлять с анализом тех грамматических и стилистических норм, которые тот или иной язык предоставляет поэту, с анализом соответствий цветовой палитры и геометрии фантазии художника, с анализом звуковых рядов, частотных характеристик, посредством которых выражает свои образы композитор или музыкант-импровизатор, с анализом логических структур, формул и правил, которые позволяют ученому сформулировать абдуктивную гипотезу. Этот анализ по большому счету должен начинаться с припоминания того конкретного способа, которым каждый студент решал, решает и будет решать проблему «чистого листа» у хорошего профессора, проблему начала собственного текста, первый для каждого и оттого самый важный способ осуществления общей проблемы выражения.
Заключение. Проблема человека в философии техники
В настоящем рассуждении без внимания осталась проблема эволюции технических сред, ее влияние на человека, вопросы о нечеловеческих субъектах деятельности, возникающие при обсуждении т.н. «технологической сингулярности» [30]. Платонистское понимание техники Ф. Дессауэром позволяет достаточно внятно поставить эти проблемы и вопросы, выразив их в моделях трансцендентального описания на языке общей семиотики. Очевидно, что в XXI веке человечество вступает в состояние «третьей природы», выстраивая новую искусственную среду поверх искусственной среды, созданной в XIX и XX веках, и у философского сообщества пока нет обобщающих глобальных моделей, которые могли бы описать взаимодействие природного и искусственного, показать глобальный горизонт прогноза. Оформленное Ф. Дессауэром платонистское понимание техники как проективной, материально выраженной рефлексии, формирующей специфическую среду со своими нормами существования и эволюции, позволяет, по меньшей мере, увидеть этот круг проблем.
Платонистский подход Ф. Дессауэра к пониманию техники в онтологической и эпистемологической перспективах выявляет существенную область в исследованиях философии техники, а именно область правил проективной рефлексии, которая вскрывает сущность технического на фоне проблемы человека. Техника - область, в которой сталкиваются человеческие проблемы, то есть знание человека о собственном незнании, со способами их решения, то есть с формами и правилами человеческой деятельности в отношении естественной природы, самого себя и других людей. Каждое конкретное решение
-
3 Перевод на русский язык второй главы «К философии техники. Что есть техника? - Термин и сущность» монографии Ф. Дессауэра «Спор о технике», в которой приведены эти тезисы, публикуется впервые в этом номере журнала. Прим.ред.
в области техники, будь то логически корректная теория по поводу объекта или процесса или созданный технический объект, оказывает специфическое, присущее только ему воздействие на всю область техники и через неё - на человека и на среду его обитания. Эти изменения, накапливаясь, влекут изменения в научной, политической, экономической сферах, прямо влияют на понимание целей и содержание образования.
Соответственно исследование области техники, техносферы может и должно ориентироваться на анализ правил проективной рефлексии, заданных «четвёртым царством» Ф. Дессауэра, научиться делить их в смысле общей семиотики на группы семантических, синтаксических, прагматических правил, находить корреляции этих правил с общими правилами выражения и теориями творчества, исследуемыми философами, историками, филологами, психологами и социологами.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, проект МД-6200.2016.6 «Семиотические основания техники и технического сознания».
Список литературы Эпистемологические и онтологические проблемы философии техники: "Четвёртое царство" Ф. Дессауэра
- Kapp, E. Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten/E. Kapp. -Braunschweig: «Verlag von George Westermann», 1877.
- Энгельмейер, П.К. Философия техники/П.К.Энгельмейер. -СПб.: «Лань», 2013.
- Mayer, E. Technik und Kultur. Gedanken ueber die Verstaatlichung des Menschen/E. Mayer. -Berlin: «Huepeden & Merzyn Verlag», 1906.
- Eyth, M. Lebendige Kraefte. Sieben Vortraege aus dem Gebiete der Technik/M. Eyth. -Berlin: «Springer», 1905.
- Zschimmer, E. Philosophie der Technik: vom Sinn der Technik und Kritik des Unsinns über die Technik/E. Zschimmer. -Jena: «Diedrichs», 1914.