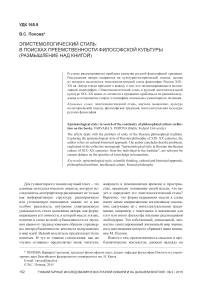Эпистемологический стиль: в поисках преемственности философской культуры (размышление над книгой)
Автор: Попова В.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема единства русской философской традиции. Рассуждения автора опираются на культурно-исторический подход, исходя из которого исследуется эпистемологический стиль философии России XIX-XX вв. Автор статьи приходит к выводу о том, что эксплицированные в коллективной монографии «Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX веков: от личности к традиции» проблемы и их решения актуальны в сегодняшних спорах о специфике социально-гуманитарного познания.
Эпистемологический стиль, научное мышление, культурно-исторический подход, философская традиция, интеллектуальная культура, русская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175579
IDR: 170175579 | УДК: 165.9
Текст научной статьи Эпистемологический стиль: в поисках преемственности философской культуры (размышление над книгой)
Для гуманитарного знания научный текст – это единица методологического анализа, которую исследователь-интерпретатор расценивает не только как информативную структуру, расширяющую или уточняющую имеющееся знание, но и как особую реальность, внутренне схватывающую уникальность стиля мышления автора, как форму выражения его личности, в которой мысль и язык, понятие и слово во всей субъективности их звучания каким-то трудноуловимым образом соразмерны интерсубъективности контекста выпускаемых в мир идей. Всякий мыслитель предполагает быть понятым. И тут-то главная головоломка: как же «чужое сознание» предполагает меня, читателя, живущего в изменившемся времени и пространстве, предвидит понимание своей мысли, что ведет и определяет его эпистемологический стиль? Вероятно, что форма выражения мысли в слове имеет некие направляющие когнитивные основания, связующие её с интеллектуальными традициями, например, с заметными и значимыми для того или иного философа опытами реализациями любомудрия. Это собственный, уникальный, личностно синтезированный жизненный мир знания, на существование которого обращает наше внимание М. Полани.
Вместе с тем, преемственность смыслов и проблематических контекстов, дающая надежду на
* ПОПОВА Варвара Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта.
то, что исследователю истории идей (историку философии, литературоведу, культурологу, искусствоведу и т.д.) удастся уловить смысловую связь «того-что-было» с «тем-что-актуально», с трудом поддается сущностной экспликации. «Это одна из самых сложных проблем личностного знания, замечает Н.М. Смирнова, – когнитивное “присвоение” общих максим мышления личностным знанием (personal knowledge), их когнитивная адаптация, т.е. “прилаживание” к конкретной познавательной ситуации. Когнитивные усилия по преодолению “эпистемологического разрыва” (epistemological gap) носят творческий характер, и это роднит познание с искусством: в нем обнаруживается и персональная захваченность, и личностная самоотдача, и интеллектуальная страсть» [7, с. 9].
Сложнейший исследовательский квест по поиску единства философской традиции – это далеко не поиск сходств и различий, конвергенций и дивергенций. Здесь в какой-то момент требуется поменять угол зрения с того «о чем» размышляли, на то «как» протекало размышление и в «разговоре», в диалоге с кем оно себя взращивало и обогащало. Современная эпистемология, учитывающая «я» исследователя во всей его субъективной и эмпирической полноте, в его включенности в контекст объекта своего исследования, делает бесполезной работу в том направлении, которое подверг очень точной критике русский философ В.П. Зубов в эссе «De defectu philosophae» (1919), говоря о том, что современному взгляду на философию менее всего подходит «<…> энциклопедическое накопление различных мнений различных эпох, происходящее не по принципу внутреннему, как у Гегеля, а по принципу внешнему, – нечто вроде De placitis philo-sophorum Псевдо-Плутарха, своеобразного каталога разноречивых философских суждений. Философия превращается здесь в филодоксию. Только при полном угасании философской мысли появляются в философии вместо жизненных построений variae historiae и начинается гробокопательство историков философии. Но еще в Евангелии сказано: оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Бесцельно задаваться мыслью воспроизвести во всех деталях систему Декарта или Лейбница, – воспроизвести так, как она представлялась тогда, независимо от нас <…>» [1, с. 29]
Экспликация смыслового единства философской традиции может быть произведена через вопрошание, обращение к эпистемологическим и методологическим идеям, посредством которых различные авторы выражают свои интеллектуальные пути, ходы мысли. И вроде бы здесь задачи оче- видны: проследить, как философы говорят о собственном мышлении, какие эпистемологические задачи перед собой ставят? А затем – сравнить, сопоставить, проанализировать… Авторы книги «Эпистемеологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX–XX веков: От личности к традиции», пытаясь выявить такие «интеллектуальные почерки», предуведомляют, что решение этой задачи вовсе не тривиально, что русская философия обозначенного периода «представляет весьма мало очевидного материала для рассуждений о традиции в этой области философии – эпистемология не осознавалась в качестве стержневой (связующей) темы русской интеллектуальной культуры» [11, с. 7]. Действительно, философское творчество – это область творческой свободы особого свойства, в нем рациональность, требование обоснованности и доказательности соседствует с художественными формами выражения, смыслообразующими метафорами, диалогическими структурами, ответами на вывозы критиков, уводящими зачастую в сторону от магистральной линии философствования и т.п. Проблема в самой природе философии, о которой толкуют в начале всякого элементарного курса философии: это наука и ненаука одновременно. История философии, нацеленная по большому счету на установление связи времен в философском смысле вынуждена приводить эту полифоничность в гармонический порядок, не только хронологический, но типологический. «Философские системы, течения, направления, манеры и способы философствования можно разделять и классифицировать по самым разным основаниям: материализм и идеализм; монизма, дуализм, плюрализм; эмпиризм и рационализм; континентальная и англо-американская философия; научная и ненаучная, скажем, религиозная философия и т.д. представляется, что в настоящее время особое значение приобретаем еще одно разделение философии – по способам философствования или по манере изложения своих идей» [4, с. 12]. Автор этого подхода, А.Л. Никифоров, исходит в своем разделении типов философствования из вопроса о связи между когнитивными и конструктивными функциями языка и его способностью придавать смысл индивидуальному человеческому существования, как формируется тот язык, мир смыслов, из которого мы сегодня конструируем свои собственные интеллектуальные миры.
И действительно, обращение именно к знаково-символической, языковой трактовке познания помогает обнаруживать в философском творчестве «интеллектуальные созвучия», улавливать уникальные эпистемологические пресуппозиции авторов, проблематический контекст рассуждений, который сохраняет себя сквозь эпохи. Именно этот путь исследования избрали авторы указанной выше монографии, посвященной эпистемологическому стилю в русской интеллектуальной культуре.
Понятие интеллектуальной культуры само по себе очень удачно, оно достаточно емко, чтобы вместить все краски и самобытные воплощения философских исканий русских мыслителей XIX– XX вв. Такой подход к философствованию как части культуры органичен самому образу философской деятельности в России, он «находил выражение и в отношении русских философов к их профессиональной деятельности – они воспринимали её не как отвлеченную, но как способ конкретного существования, способ их жизни в философии» [11, с. 10]. Такой подход к эпистемологической проблематике обеспечивает современная культурно-историческая эпистемология – методологическое направление, которое обращает на себя внимание плодотворностью в деле воссоздания своеобразного живого «архива эпохи» (см. подробнее работы [10], [2]) и эпистемологического стиля мышления1 философов прошлого, далекого от нас и не очень, их идей забытых и активно обсуждаемых. Здесь культурно-историческая эпистемология предлагает релевантные методологические подходы, учитывающие социокультурную обусловленность знания, придающие философскому знанию статус рационального духа эпохи.
Понятие «стиль научного мышления» (или «эпистемологический стиль»), взятое за методологическое основание исследования в монографии, оказывается для авторов путеводной нитью, на которую нанизываются «слова-термины, пригодны для того, чтобы выявить эпистемологическую традицию в русской философской мысли, определить её контуры, проанализировать и, наконец, продемонстрировать перспективы её конкретного методологического применения в гуманитарном исследовании» [11, с. 12]. Поиск единства, общего поля, общего интеллектуального пространства в некоторой период жизни отечественной философии в ракурсе эпистемологического стиля позволяет учитывать такие значимые единицы анализа, как логико-языковые структуры; принимать во внимание то, что «требования логики могут терять статус решающих элементов познания и становятся объектами выбора – их использование определяется конкретными представлениями ученого о стилистической уместности их применения» [5,
с. 34]. Методологически понятие стиля научного мышления позволяет выстроить смысловую связь между разнородными концепциями, осмыслить основания единства того или иного научного сообщества. И, что самое важное, – учесть «осознание учеными внутренних оснований и специфики того целостного смыслового поля, внутри которого они фактически работают в тот или иной исторический период (курсив Б.И. Пружинина)» [5, с. 30].
Обращаясь к конкретике проявлений эпистемологического стиля в русской интеллектуальной культуре XIX–XX веков, авторы книги вовлекают в исследование многообразный и уникальный материал, демонстрируя нетривиальные и неожиданные подходы. Для читателя раскрывается преемственность стиля мышления от Г. Шпета в его диалоге в Д. Юмом к прочтениям и актуализации А. Гуревичем эпистемологии исторического познания М. Бахтина. Эта связь построена через историзм, который определяется как «восприятие мира в его динамике», как направление философских размышлений, особенно высоко ставящее историю и проблемы исторического познания [6, с. 41]. При чтении книги приходит понимание того, что установление этой смысловой связи полифоничных концепций на почве историзма без какого-то особого, коллективного взгляда не представляется возможным. Но коллективные усилия авторов через диалоги и «совместные размышления» об историческом познании с Н. Карамзиным, Д. Петрушевским, Н. Страховым, А. Лаппо-Дани-левским, Г. Шпетом извлекают на свет драгоценные «слова-понятия» (термин Г. Шпета), вокруг которых выстраивается, наращивается историческая эпистемология, обнаруживая своеобразие на русской почве XIX–XX вв.: «причинность», «скептицизм в историческом познании», «логический стиль исторического познания», «соотношение общего и единичного в исторической науке», «объяснение и понимание в историческом познании» и т.д. И мы вместе с авторами понимаем, что многое из сказанного и ставшего объектом живого философского обсуждения в письмах, в критических статьях, обнаруживает животрепещущую актуальность в сегодняшних спорах о специфике социально-гуманитарного познания.
Например, есть письмо Г. Шпета историку Д.М. Петрушевскому (16 апреля – 6 мая 1928), в котором обсуждается «специфика исторической науки, её методологии и философии, особенности соотношения общей логики и логики исторического знания» [3, с. 69]. В письме Шпет фиксирует, чем чревато использование «логики натуралиста»,
«логики техника», т.е. логики, обосновывающей математику и естествознание для исторической причинной реальности. Отдавая дань «Риккер-ту и К°» в деле разделения двух рукавов науки по методу, Шпет прибавляет к этому постановку проблем исторического и социального познания, не получившего достаточного решения у неокантианцев: «В действительности, исторически индивидуальное должно быть противопоставляемо делимому («вещественному»), которое в любой части, при любом делении, в каждой своей части принципиально сохраняет свойства целого (как масло, песок и т.п.), – и это логически и методологически очень важно. Но еще важнее – характер познаваемого предмета. Исторический предмет в непосредственном восприятии и в созерцании никогда не дается. Это – предмет, принципиально данный только в свидетельствах (the evidence): документе, памятнике, акте, показании и т.д.» [9, с. 450]. И до сегодняшнего дня проблемы демаркации гуманитарных наук, их предметной специфики активно обсуждаются, в аспирантских курсах «истории и философии науки» предпринимаются попытки доходчиво объяснить молодым ученым, в чем специфика их предметных областей и почему современная постнеклассическая наука не должна абстрагировать друг от друга гуманитарный и естественный ракурсы исследований, что они должны быть взаимоположены друг другу и личности, ценностям исследователя. В функционировании образовательного процесса сегодняшней России нерешенность этого вопроса сказывается: возникают «лишние» дисциплины, не оправданные прикладными ориентациями науки; провозглашается гуманизация и гуманитаризация, но на деле эти процессы не получают смысловых и ценностных оснований. А ответ можно было найти у Шпета в 1928: «Сами естественные науки приобретают подлинно образовательное значение, – а не узкоутилитарное, – когда они вводятся исторически, в связи с историей общей культуры, и когда в современном результате своем они также представляются и преподаются как продукты общего развития человеческой мысли и энергии» [9, с. 453].
Благодаря богатой панораме эпистемологического стиля в гуманитарной русской мысли XIX– XX вв., представленной в монографии [11], фиксируются в своем историческом развертывании те самые проблемы, которые стоят перед современным историческим познанием, перед гуманитарным образованием и, более того, вообще в связи с интеллектуальной культурой личности: проблема исторической реальности (каким образом она может быть схвачена исследователем – между эмпиризмом и рационализмом в изучении истории); проблема выражения познанного (вопрос о том, каким языком писать историю); вопрос о возможности исторических обобщений (а значит – вопрос о повторяемости в истории), их научного статуса и языковой формы и др. Это проблемы, способы обсуждения которых в русской эпистемологической мысли пошлого современные исследователи зачастую просто обходили вниманием, ведомые схемами и концепциями западноевропейского методологического опыта: Э Гуссерля, Г.Г. Гадамера, М. Фуко, Делеза и др. И теперь мы видим благодаря таким работам очевидность и обоснованность того, что в отечественной интеллектуальной традиции есть не только релевантные зарубежным достижениям идеи, но и не чужеродная, а близкая отечественной гуманитарной науке культурно-эпистемологическая подоснова, предпони-мание.
Кроме приведенного есть ещё много интересных тем и вопросов, выделяемых авторами монографии в общем поле стиля мышления: проблема личности и «чужого Я», семиотические проблемы, проблема рациональности. Таким образом, в стиль мышления можно включить те проблемы, которые как бы возвышаются над поливариантностью их решения и образуют необходимые основания для обсуждений. Представленные через культурно-историческую конкретику способы выражения эпистемологических стилей могут стать для сегодняшнего исследователя основанием для дискуссий в сфере философско-исторических, семиотических, методологических и других исследований.
Список литературы Эпистемологический стиль: в поисках преемственности философской культуры (размышление над книгой)
- Зубов В.П. De defectu philosophae//Избранные труды по истории философии и эстетики. 1917-1930. М., 2004. С. 28-32.
- Исупов К.Г. Археография философской культуры//Вопросы философии. 2012. № 1. C. 97-104.
- Микешина Л.А. Эпистолярный «разговор» на исторические темы//Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX веков: от личности к традиции/Под ред. Б.И. Пужинина и Т.Г. Щедриной. М., 2013. С. 68-72.
- Никифоров А.Л. Структура и смысл жизненного мира человека. М., 2012.
- Пружинин Б.И. Культурно-историческая природа познания и стиль научного мышления//Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-летию Владимира Петровича Зинченко/Под общ. ред. Т.Г. Щедриной. М., 2011. С. 28-42.
- Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Введение к разделу I: Историзм как эпистемологическое основание русской философии//Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX веков: от личности к традиции/Под ред. Б.И. Пружинина и Т.Г. Щедриной. М., 2013. С. 41-43.
- Смирнова Н.М. Интерсубъективность как концепт науки и философии//Интерсубъективность в науке и философии/Под ред. Н.М. Смирновой. М., 2014. 8.
- Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-летию Владимира Петровича Зинченко/Под общ. ред. Т.Г. Щедриной. М., 2011.
- Шпет Г.Г. Письмо Д.М. Петрушевскому 16 IV -6 V 1928//Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие/Отв. редактор-составитель Т.Г. Щедрина. М., 2005. С. 449-458
- Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008. 11.
- Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX-XX веков: от личности к традиции/Под ред. Б.И. Пужинина и Т.Г. Щедриной. М., 2013.