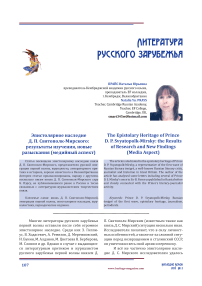Эпистолярное наследие Д. П. Святополк-Мирского: результаты изучения, новые разыскания (медийный аспект)
Автор: Прайс Наталья Юрьевна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Литература русского зарубежья
Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена эпистолярному наследию князя Д. П. Святополк-Мирского, представителя русской эмиграции первой волны, журналиста, литературного критика и историка, хорошо известного в Великобритании. Автором статьи проанализированы, наряду с другими, несколько писем князя Д. П. Святополк-Мирского сэру Б. Пэрсу, не публиковавшихся ранее в России и тесно связанных с литературно-журналистским творчеством князя.
Князь д. п. святополк-мирский, эмиграция первой волны, эпистолярное наследие, журналистика, периодические издания
Короткий адрес: https://sciup.org/170174887
IDR: 170174887 | УДК: 82-6
Текст научной статьи Эпистолярное наследие Д. П. Святополк-Мирского: результаты изучения, новые разыскания (медийный аспект)
Многие литераторы русского зарубежья первой волны оставили после себя огромное эпистолярное наследие. Среди них З. Гиппиус, В. Ходасевич, А. Ремизов, Д. Мережковский, И. Бунин, М. Алданов, М. Цветаева Н. Берберова, М. Слоним и др. Однако в случае с выдающимся литературным критиком и журналистом русского зарубежья первой волны князем Д.
П. Святополк-Мирским (известным также как князь Д. С. Мирский) ситуация несколько иная. Исследователи полагают, что в силу личностных особенностей, а также из-за сложной ситуации перед возвращением в сталинский СССР, он уничтожил весь свой архив и переписку.
И всё же частично эпистолярное наследие Д. С. Мирского исследователям удалось обнаружить. Значительная его часть уже опубликована.
Основные вехи жизни князя Д. П. Свято-полк-Мирского до эмиграции изложены им на английском языке в автобиографии при поступлении на работу в Королевский колледж Лондонского университета в 1922 г: «Родился в семье предводителя дворянства Харьковской губернии в России в 1890 г. Образование получил дома и в 1-й гимназии Санкт-Петербурга (1908). Окончил Санкт-Петербургский университет, факультет классической литературы весной 1914 г. по курсу профессоров Ростовцева и Жилинского. Закончил факультет истории Харьковского университета в 1918 г.» [7]. Он сообщает, что был офицером Русской армии в 1912–1914 гг. и офицером Добровольческой Армии генерала Деникина в 1919– 1920 гг., и что в то время им уже был закончен труд по филологии под названием «Система русской прозы», утерянный во время Гражданской войны. Мирский упоминает о своей работе в качестве корреспондента нескольких британских периодических изданий, таких как «The London Mercury», «The Outlook», «The Quarterly Review», а также некоторых газет и журналов русской эмиграции [7]. Среди СМИ русского зарубежья он указывает лондонский англоязычный журнал «Russian Life».
Параллельно с работой в периодических изданиях князь Д. С. Мирский преподавал курс русской литературы в Королевском колледже Лондонского университета с 1922 по 1932 гг. В 1924 г. был опубликован составленный Мирским сборник русской поэзии. Ещё через год на английском языке вышла его монография по истории современной русской литературы, базой для которой послужили читанные им лекции в университете. В 1926 г. на английском языке вышла книга князя Д. С. Мирского «Пушкин» – одно из лучших исследований о великом русском поэте на английском языке по мнению многих англоязычных литераторов того времени. У американского литератора и журналиста Эдмунда Уилсона эта книга пробудила желание выучить русский язык для того, чтобы прочитать Пушкина в оригинале [см. 21, с. 271, 276].
Вскоре после «Пушкина» на английском языке выходят два тома «Истории русской литературы» Д. П. Мирского (в 1926 и 1927), в 1931 г. – его «Россия: социальная история», а также огромное количество текстов в периодических изданиях Великобритании, Франции, Италии, США и других стран. Большинство работ князя Д. П. Святополк-Мирского вызвало большой исследовательский интерес, а «История русской литературы» стала настольной книгой английских студентов, специализирующейся в области русской литературы.
Литературная деятельность князя Д. С. Мирского нашла отражение в его эпи-столярн ом наследии. Одно из ранних писем Мирского эмигрантского периода, адресованное Морису Бэрингу, было отправлено из Афин в сентябре 1920 г. Именно из этого письма мы узнаём о намерениях Д. С. Мирского заняться литературной критикой в эмиграции: «<...> Мне пришло в голову, что может мне следует попробовать заняться литературным делом за границей: в Англии или во Франции <...>» [13, с. 27]. Впервые данное письмо было опубликованно на английском языке Н. Лаврухиной в журнале Лондонского университета «Slavonic and East European Review» в 1984 г. [13]. В 2002 г. оно появилось уже в русском варианте вместе с некоторыми переведёнными на русский язык литературными трудами Д. С. Мирского в сборнике, подготовленном В. В. Перхиным, профессором Санкт-Петербургского университета [6, с.240-244]. Несколько позже были опубликованы письма князя Д. С. Мирского П. П. Сувчинскому [17], которые удалось разыскать Дж. С. Смиту, профессору Охфордского университета в Великобритании. Дж. С. Смит является также автором единственного на сегодняшний день наиболее полного исследования жизни и творчества князя Д. С. Мирского [16]. Письма П. П. Сувчинскому охватывают практически весь эмигрантский период князя Д. С. Мирского (1922–1931) и освещают важные исторические вехи его деятельности в эмиграции – создание журнала «Версты» (1926–1928), издание газеты «Евразия» (1928–1929), период противостояния литературной «элите» эмиграции и другие.
Находкой Дж. Смита были также письма князя Д. С. Мирского М. Флоринскому [19], рус- скому историку, проживавшему тогда в США и организовавшему летом 1928 г. поездку князя с лекциями в Колумбийский, Корнелький и Чикагский университет, о которой Д. С. Мирский сообщает в одном из своих писем П. П. Сувчин-скому: «В Америке: Columbia University, New York City. <...> Дорогой Сувчинский, завтра еду в Америку <...>» [20, с. 107].
В 1905 г., будучи ещё подростком, Мирский участвовал в протесте против ареста Максима Горького царскими властями. В январе 1928 г. в Сорренто состоялось личное знакомство князя Д. С. Мирского (где он находился тогда вместе с П. П. Сувчинским) с М. Горьким. Оно оказало огромное влияние на князя и практически изменило всю его последующую жизнь. Вскоре после этой встречи, ставшей роковой для Мирского, началась их переписка. Известны шестнадцать писем к М. Горькому (1928-1934), содержание которых свидетельствует о всё более возрастающем восхищении князя Д. С. Мирского личностью и творчеством «буревестника революции». Однако, это не прослеживается в содержании писем Мирского за 1928 г. Сув-чинскому. Встреча с Горьким практически не нашла в них отражения. Только в одном из писем Мирский упоминает о списке литературы, который, видимо, рекомендовал ему в Италии Горький [20, с. 96]. Теперь известно, что Горький оказал решающеее влияние на решение Д. С. Мирского вернуться в Россию, даже несмотря на то, что перед князем открывались новые возможности для литературной деятельности в Англии, о которых он сообщает М. Горькому: «<...> думаю, что в Англии можно будет ещё поработать. Там вдруг открылись такие перспективы, о которых ещё три месяца назад можно было только гадать. <...>». [9, с. 100] Судя по этому письму, князь Д. С. Мирский всё-таки колебался с решением о возвращении на Родину. Двенадцать из писем князя М. Горькому были отправлены им из эмиграции и четыре – после возвращения Д. С. Мирского в Россию. Эта переписка была подготовлена и опубликована совместными усилиями проф. Дж. С. Смита и О. А. Казниной [11]. Письма Горького к Мирскому не сохранились по причинам, указанным выше.
Архивариусом библиотеки в Лидсе (Англия) Р. Дэвисом и профессором Дж. С. Смитом были обнаружены 22 письма князя Д. С. Мирского к Соломее Халперн (в девичестве княгиня Андронникова) 1 и 7 писем Вере Александровне Сувчинской (в девичестве Гучковой) [8]. Это были, в основном, письма личного характера. Одной из тем переписки с С. Халперн была финансовая помощь М. Цветаевой.
Д. С. Мирского и В. Сувчинскую связывали близкие отношения. Помимо чисто приватных сюжетов, в одном из писем раскрывается текущее новое научное и мировоззренческое увлечение Мирского; «<...> Занятия мои коммерческой географией идут успешно, и я серьёзно подумываю, не написать ли мне эту книжечку поэпохендмахенднее [sic]. Я хочу ввести вообще марксистский метод в географию <...>» [8, с. 120]. Мирский ходатайствовал о российском паспорте для В. Сувчинской в надежде на то, что она выйдет за него замуж и поедет с ним в Советскую Россию [см. 9, с. 101–102] 2 .
Одно из писем князя Д. С. Мирского, опубликованных В. В. Перхиным, адресовано К. И. Чуковскому. В этом письме он обещал «подвигнуть литературно англичан» в области русской литературы [4, c. 147] [6, с. 245], чем, собственно, князь Д. С. Мирский и занимался в течение более десяти лет своей эмиграции в Англии. О его деятельности в этом направлении свидетельствуют восемь писем за 1924–1926 гг. редакторам английских издательств Ч. Прентису и Л. Вулфу. Письма были опубликованы А. Рогачевским на русском и английском языках в одном из выпусков альманаха «Диаспора» [3]. Из содержания письма Ч. Прентису явствует, что князь Д. С. Мирский вёл с ним переговоры о публикации произведений А. Ремизова «Повести о Иване Семёновиче Стратилатове» (в переводе А. Брауна) и «Часы» (в переводе Дж. Курноса) в издатель- стве «Chatto and Windus». В них также шла речь о готовящемся переводе «Пятой язвы» Ремизова и о произведениях Андрея Белого. В письмах Л. Вульфу, бывшему в то время редактором издательства «Hogarth Press». Мирский пытается заручиться его поддержкой для того, чтобы начать издавать отдельный журнал («Версты») в Европе, где могли печатать свои произведения талантливые русские литераторы, например, А. Ремизов и М. Цветаева. По мнению Мирского, у этих писателей не было возможности печататься в русских эмигрантских журналах из-за препятствий со стороны русской литературной «элиты» [4; с. 364–365]. Другим ярким подтверждением активного участия князя в поддержке писателей русской эмиграции, и особенно Ремизова, служат тридцать четыре письма князя Д. С. Мирского за 1922–1929 гг. А. М. Ремизову. Они опубликованы американским исследователем Робертом Хьюзом [5]. А. Рогачевский писал, что роль Мирского «<...> в деле пропаганды творчества Ремизова в англоязычном мире трудно переоценить <...>» [3; с. 353]
Известны четыре письма князя Д. С. Мирского А. В. Тырковой-Уилльямс [13], которая была довольно известной личностью как в дореволюционной России, так и в среде русской эмиграции первой волны. Она являлась одним из организаторов Комитета помощи русским беженцам, редактором Бюллетеней Комитета, а также периодического издания «Русская жизнь». Муж А. Тырковой-Уилльямс Гарольд Уилльямс был в то время корреспондентом газеты «Таймс». Отметим, что в годы Гражданской войны супруги, находясь на Юге России, активно поддерживали Добровольческую армию, в рядах которой сражался Мирский [3]. Его письма, адресованные А. В. Тырковой, в основном касались организации вечера поэзии М. Цветаевой в Англии. В одном из посланий Мирский пишет: «Я осмеливаюсь рассчитывать на вашу помощь в одном деле <...>: устройство вечера Марины Цветаевой в Англии. Она находится в очень бедственном положении (двое детей), и при нынешнем состоянии книжного рынка трудно рассчитывать [sic] на его поправлении» [15, с. 484]. Из писем мы также узнаём, что поэтический вечер Марины Цветаевой состоялся 12 марта 1926 г. в помещении Королевского колледжа Лондонского университета. Позже А. В. Тыркова-Уил-льямс тепло отзывалась о поэтессе и ее стихах.
Кроме упомянутых выше, известны также письма Мирского за 1925-1926 гг. будущему Архиепископу Иоанну Шаховскому [1, с. 197–217]. Тогда ещё все знали его как князя Дмитрия Алексеевича Шаховского. Он являлся редактором двух выпусков журнала «Благонамеренный», выходившего в 1926 на русском языке в Брюсселе. Журнал быстро получил широкую известность за счет публикаций произведений И. Бунина, В. Ходасевича, Д. С. Мирского, Г. Струве, Д. Шаховского и других. Однако после пострижения князя Шаховского в монахи во второй половине 1926 г. журнал прекратил своё существование. Письма князя Д. С. Мирского князю Д. А. Шаховскому в большинстве своём были посвящены журналу «Благонамеренный» и его авторам.
В период эмиграции в Англии у князя Д. С. Мирского сложились дружеские отношения с уже немолодой тогда Джэйн Еллен Харрисон, профессором Кембриджского университета. Она сразу поддержала его издательскую идею и в некоторой мере спонсировала создание журнала «Версты». Д. Е. Харрисон также способствовала вхождению князя Д. С. Мирского в круг видных представителей европейской интеллигенции: писателей, философов, учёных, собиравшихся тогда на интеллектуальные беседы в Понтигни на юге Франции. На этих встречах присутствовали А. Моруа, П. Жанет, В. Янкелевич, М. Арланд, А. Гайд, Р. Фернандес, Ф. Мориак, Э. Куртис и многие другие. Из русских интеллектуалов на них были представлены философ Н. Бердяев (постоянный гость) и князь Д. С. Мирский. Последний упоминает о Понтигни в одном из писем князю Д. Шаховскому от 9 сентября 1925 г.: «Милый Князь, простите, что так долго не отвечал: я был в Pontigni где французы занимаются умными разговорами и где очень трудно заниматься чем-нибудь» [1, с. 201].
Из писем Д. Е. Харрисон Мирскому [18] мы узнаём, что между ними существовало тесное творческое сотрудничество – взаимная помощь в переводах и редактировании литературных трудов. Письма Д. Е. Харрисон, адресованные Мирскому, были переданы им в Кембриджский университет.
В отделе рукописей Британской библиотеки находятся несколько неопубликованных писем князя Д. С. Мирского на английском языке, адресованных сэру Б. Пэрсу, бывшему тогда директором Королевского колледжа Лондонского университета. Часть из них упоминается в исследованиях Д. С. Смита и О. А. Казниной.
По содержанию писем можно судить, что карьера Мирского в качестве преподавателя, а также журналиста, литературного критика и историка литературы началась стремительно сразу после его приезда в Англию. Он активно включается в работу, предлагая темы, с которыми намеревался выступить перед студентами Королевского Колледжа Лондонского университета. Так, в одном из своих первых писем сэру Б. Пэр-су (в котором он называет его «Дорогой сэр Бернард») от 14 мая 1922 г. князь Д. С. Мирский сообщает, что «<...> будет рад прочитать три публичные лекции <…>», о которых они говорили ранее и предлагает прочитать их на темы «Пушкин», «Лесков» и «Блок». «Есть какие-нибудь возражения? Я также сделаю некоторые наброски по поводу книги (фактически, я их уже начал) и могу её подготовить к следующему году» – пишет он [7]. Таким образом, уже из первого письма становятся очевидными его литературные предпочтения, а также планы по поводу его литературно-журналистской деятельности, причём не только в британских, но и в русских эмигрантских изданиях. С этой целью он предпринял поездку в Берлин, о которой сообщил в октябрьском письме 1922 г. сэру Б. Пэрсу: «Я ездил в Берлин в прошлом сентябре для того, чтобы войти в контакт с русскими литературными кругами и приобрести последние публикации из России» [7]. Видимо, результатом этой поездки стало появление литературно-критических статей князя Д. С. Мирского в «Днях», «Современных записках», «Числах».
Князь Д. С. Мирский был постоянным корреспондентом и одним из редакторов академического журнала «The Slavonic Review», который издавался сотрудниками Славянско- го отделения Королевского колледжа Лондонского университета. Регулярно писать для этого журнала было обязанностью каждого слависта колледжа. Сэр Б. Пэрс писал по этому поводу князю Д. С. Мирскому: «”Обозрение” является наиболее важной частью работы преподавателей колледжа и сотрудничество в нём – это часть работы каждого штатного преподавателя. Вряд ли мы держали бы какого-нибудь преподавателя, если бы он отказался сотрудничать в “Обозрении”» [7].
В неопубликованных письмах князя Д. С. Мирского сэру Б. Пэрсу мы находим подтверждение роли первого в качестве активного корреспондента и редактора журнала «The Slavonic Review». Так, например, в письме от 19 мая 1924 г. он сообщает: «<...> у меня есть план, выполнение которого доставит мне огромное удовольствие: я запланировал серию подборок по литературе русских писателей XVIII в. с введением, а также биографическими и критическими заметками о каждом из них» [7]. И дальше Мирский указывает список русских литераторов, о творчестве которых он собирался писать. Это же письмо подтверждает более широкий спектр его журналистской деятельности не только в английских, но также и в американских периодических изданиях: «Мои публикации: о современной русской литературе в «Лондонском Меркурии» (февраль и июль), «Современном Обозрении» (август), Литературном приложении к «Таймс», в нью-йорской газете «Вечерний Пост» (Литературное приложение)» [7].
В следующем письме сэру Б. Пэрсу (датируется тем же числом, что и предыдущее) Мирский сообщает о причине своего нежелания переводить произведения А. М. Ремизова и намерении именно в США опубликовать несколько томов написанной им истории русской литературы. Князь Д. С. Мирский говорит о том, что первый том будущей истории литературы практически готов, а второй предположительно будет закончен к маю 1925 г.: «<...> Писатели, которых я собираюсь включить (в «Славянское Обозрение») Иван Тимофеев, <...> царь Алексей и Аввакум <...>. Затем пойдут рецензии Лаври-на и всё остальное. Что касается Ремизова, я пытался это сделать, но понял, что для меня это невыполнимая задача. Я не могу предпринять перевод его произведений без систематической и постоянной помощи какого-нибудь компетентного стилиста (не просто просмотра им моего перевода, но на основе полного сотрудничества). Я был бы очень Вам благодарен, если бы Вы помогли посодействовать с публикацией в Америке моих лекций. Первый том почти готов <...>. Я прилагаю к письму краткий конспект каждого из двух томов. Если они будут успешными после публикации, то я хотел бы добавить третий том <...>» [7]. Как известно, «История русской литературы» оказалась успешным проектом.
Нам также удалось обнаружить одно письмо князя Д.С. Мирского от 15 апреля 1924 г, адресованное Гарольду Васильевичу (как называли его русские друзья) Уилльямсу. Из содержания письма становится очевидным, что между ними существовала творческая переписка. В этом письме, в частности, идет речь о публикации литературоведческих работ Мирского и его общении с писателями: «С “Ахматовой” мне больше нечего делать и если я её не потеряю, пошлю опять в “...” (название журнала неразборчиво. – Авт.). “Ремизова” для “Quarterly” думаю почтовым отправить. Самого Ремизова видел на днях, были в обществе английских и французских писателей. Очень было забавно» [7]. Письмо Мирского было датировано апрелем 1924 г. Видимо, речь в нем шла ещё об одной его статье о Ремизове, поскольку в февральском номере Литературного приложения к газете «The Times» от 21 февраля 1924 г. уже вышло эссе Мирского под названием «Алексей Ремизов». В нем рассмотрены произведения «Пятая язва», «Крестовая сестра» и «Сказки русского народа, пересказанные Ремизовым». Мирский констатировал, что в английском обществе русская литература до сих пор остается неизвестной большинству читателей. Он отмечал наличие разнообразия стилей в произведениях Ремизова и то, что тот унаследовал все лучшие черты творчества Достоевского и Гоголя. Подчеркивается, что последние 10–12 лет творчество самого Ремизова оказывало огромное влияние на молодых русских литераторов, в т. ч. Е. Замятина и Б. Пильняка.
Не так давно были опубликованы третий и четвертый тома переписки Т. С. Элиота под редакцией его второй жены Валери Элиот и Дж. Хаффендена. Несколько писем адресованы князю Д.С. Мирскому. Письма Т. С. Элиота дают представление об общении Мирского с представителями лондонского литературного общества в Блумсбери, такими как В. Вулф, В. Элиот, Дж. Муррей, К. Белл, Д. Лоренс и др. Переписка отражает также сотрудничество Мирского в журнале «The Criterion», редактором которого был Т. С. Элиот, она демонстрирует востребованность творчества русского князя в периодических изданиях Великобритании. В письме от 12 ноября 1926 г. Элиот пишет: «Я бы с удовольствием принял для своего журнала Ваше эссе и вообще все, что Вы предложите. Кстати, я как раз собирался написать Вам, чтобы спросить, нет ли у Вас чего-нибудь, что Вы могли бы нам предложить» [9, p. 305]. Видимо, Т. С. Элиот написал это в ответ на сообщение князя Д. С. Мирского о своей работе над двумя статьями – «Чехов и англичане» и «Современное состояние русского мышления и его отношение к Западу». В следующем письме, датируемым 15 декабря 1926 г., Т. С. Элиот уже выражает свою благодарность за присланное эссе и сообщает об интересе к Мирскому со стороны одного из редакторов французского журнала «Commerce» Маргариты Каэтани (известной также как княгиня Бассиано): «Благодарю за то, что Вы прислали “Чехов и англичане”. Я с огромным удовольствием опубликую его в “The New Criterion”. В настоящий момент не могу сказать точно, в каком именно номере выйдет это эссе; Я могу только сообщить, что оно будет опубликовано в самое ближайшее время в начале 1927 г. <...> мне бы очень хотелось встретиться с Вами на ланч <...> надеюсь, Вы сможете это сделать в начале следующего года. Я думаю, что у нас есть несколько общих знакомых, и особенно мадам Бассиано очень часто о Вас говорит» [с. 345]. 16 декабря Мирский ответил согласием: «<...> я долго искал встречи с Вами и буду чрезвычайно счастлив встретиться на ланч, как Вы предлагаете» [9, p.345]. Следующее письмо Т. С. Элиота князю Д. С. Мирскому датируется 14 октября 1927 г. Элиот выражает сожаление по поводу того, что князь передаёт свою статью «Толстой» для публикации в «The Observer», а не в «Criterion» (к тому времени он стал назваться «The Monthly Criterion»): «Я очень расстроен, что Вы пишете своего “Толстого” для “Обозревателя”, но я опасался, что подобное может случиться, поскольку на Вас большой спрос. <...>. Кстати, есть ли у Вас хоть что-нибудь – любая книга на любую тему, над которой Вы собираетесь вскоре работать? Мне бы так хотелось, чтобы Вы писали для моего журнала более-менее регулярно» [9, p.753].
Помимо журнала «The Criterion», Т. С. Элиота и князя Д. С. Мирского связывали также деловые отношения в издательстве «Blackamoor Press». 20 июня 1929 г. Мирский сообщает Элиоту о том, что французский издатель Дж. Потерман открывает своё издательство в Лондоне и хотел бы пригласить Элиота написать введение к английскому переводу Бодлеровских журналов. На это письмо Т. С. Элиот отвечает только месяц спустя, мотивируя задержку болезнью своей жены: «Очень сожалею о задержке с ответом <...>. Я буду очень рад обсудить это интересное предложение с Вашим другом Потерманом, и надеюсь, что он сможет приехать в Лондон. <...> надеюсь увидеть также Вас осенью, когда Вы вернётесь» [10, p. 544] (видимо, Элиот имеет ввиду, возвращение князя Д. С. Мирского из поездки в США). На это письмо 20 июля князь Д. С. Мирский ответил, что По-тэрман вскоре будет в Лондоне. В результате, в 1930 г. в издательстве «Blackamore Press» в Лондоне появилась книга «Intimate journals by Charles Baudelaire» («Интимные журналы Шарля Бодлера») в переводе К. Ишавуда с введением, написанным Элиотом.
В эпистолярном наследии Т. С. Элиота находятся также несколько писем, адресованных Маргарите Каэтани, из которых мы узнаем информацию о князе Д. С. Мирском. Например, 18 ноября 1926 г. Элиот пишет: «Кстати, я общался с Мирским и намереваюсь пригласить его на ланч, как только освобожусь. Я не получил нового номера “Commerce”»3 [9, p. 315]. 15 июня 1928 г. Элиот сообщает М. Каэтани: «Вчера вечером у нас обедал Мирский, как раз перед его отъездом, он чрезвычайно приятен в общении. Он и Клайв Белл4, похоже, очень хорошо поладили» [10, p.184]. Нужно отметить, что в том же году в журнале «Commerce» появляется эссе князя Д. С. Мирского на французском языке «Пушкин» («Sur Pouchkine»), а в 1930 г. – «Осип Мандельштам» («Osip Mandelshtam») в соавторстве с Г. Лимбу (G. Limbour). Последнее эссе князя Д. С. Мирского «Г. Д. Уэллс и история» было опубликовано в журнале Элиота «The Criterion» в октябре 1932 г., однако письма по поводу данной публикации пока не обнаружены.
В 2015 г. в изучении эпистолярного наследия князя Д. П. Святополка-Мирского был сделан еще один важный шаг – в итальянском издательстве «Storia e Letteratura» под редакцией Дж. С. Смита и С. Леви опубликованы 26 писем князя Д. С. Мирского и 3 письма переводчицы Е. Извольской, адресованные княгине М. Каэтани, за 1924–1932 гг. [14]. Данная переписка связана с изданием «Commerce».
Таким образом, эпистолярное наследие князя Д. С. Мирского представляет собой важный источник его литературно-журналистской деятельности в Великобритании. Оно также даёт картину научных и социальных контактов не только самого князя, но и некоторых других видных представителей литературных кругов русской эмиграции первой волны, а также английской интеллигенции, отражает особенности издания и циркуляции книг и периодики того времени. Эпистолярное наследие князя Д. П. Святополк-Мирского является ярким подтверждением его востребованности в качестве журналиста и литературного критика, а также его значительной роли в пропаганде творчества современных ему русских литераторов и русской литературы вообще в Западной Европе и США.
Список литературы Эпистолярное наследие Д. П. Святополк-Мирского: результаты изучения, новые разыскания (медийный аспект)
- Архиепископ Иоанн Шаховской. Биография юности. Установление единства. Париж: YMCA-PRESS, 1977.
- Еремеева А. Н., Крюков А. В. Британская тема в культурной жизни и периодике Юга России (1914-1920) // Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния: сб. науч. ст. Краснодар: Экоинвест, 2015. С. 208-218.
- Неизвестные письма Д. П. Святополка-Мирского середины 1920-х гг. / вступ. ст., публ. и коммент. А. Б. Рогачевского // Диаспора. Новые материалы. Paris: Atheneum; СПб.: Феникс, 2001. Вып. 2. С. 349-367.
- Русские литераторы в письмах (1905-1985): исследования и материалы / под ред. В. В. Перхина. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2004.
- «...С Вами беда - не перевести»: Письма Д.П. Святополк-Мирского к А. М. Ремизову. 1922-1929 / публ. Р. Хьюза // Диаспора. Новые материалы. Paris: Atheneum; СПб.: Феникс, 2001. Вып. 5. С. 337-401.