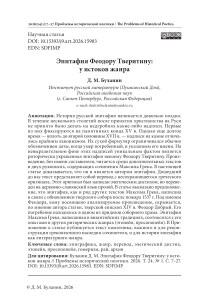Эпитафия Феодору Тверитину: у истоков жанра
Автор: Буланин Д.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
История русской эпитафии начинается довольно поздно. В течение нескольких столетий после принятия христианства на Руси не принято было делать на надгробиях какие-либо надписи. Первые из них фиксируются на памятниках конца XV в. Однако еще долгое время — вплоть до второй половины XVII в. — надписи на камне отличались крайним лаконизмом. Их сухой формуляр ограничивался обычно обозначением даты, когда умер погребенный, и указанием его имени. На невыразительном фоне этих надписей уникальным фактом является риторически украшенная эпитафия некоему Феодору Тверитину. Произведение, без имени составителя, читается среди дополнительных текстов в двух рукописях, содержащих сочинения Максима Грека. В настоящей статье доказывается, что он и является автором эпитафии. Дошедший до нас текст представляет собой перевод с несохранившегося греческого оригинала. Этот оригинал был написан элегическим дистихом, но переведен на церковно-славянский язык прозой. В статье высказано предположение, что эпитафия, как и ряд других текстов Максима Грека, написана в связи с обновлением тверского собора после пожара 1537 г. Под именем Феодора, кому посвящено анализируемое произведение, скрывается, по мнению автора статьи, тверской епископ XIV в. Феодор Добрый. Его погребение находилось в одном из приделов соборного храма. Эпитафия Максима Грека, написанная в византийских традициях, соотносится с его опытами в других риторических жанрах (этопейя, просопопейя). В Приложении к статье публикуется текст памятника, важного и для реконструкции грекоязычного наследия сочинителя, и для истории эпитафии как литературного жанра.
Эпиграфика, жанр, перевод, элегический дистих, этопейя, просопопейя, гомеризм, рай, архив
Короткий адрес: https://sciup.org/147253028
IDR: 147253028 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.15983
Текст научной статьи Эпитафия Феодору Тверитину: у истоков жанра
И з числа литературных жанров, нашедших отражение в эпиграфике, эпитафия является едва ли не самым распространенным. Но тем, кто обращается к конкретным представителям этого жанра (или иным эпиграфическим текстам), прежде приходится задать себе вопрос: как разграничить те тексты, которые начертаны непосредственно на материальном объекте, от тех, которые или переписаны с соответствующего объекта, или составлены для него загодя, или, наконец, сочинены независимо от него в качестве литературного упражнения. Знатоки интересующего нас жанра в новейших его воплощениях справедливо подчеркивают, что отделить друг от друга реальные (на надгробии) и литературные (фиктивные) его виды сложно, а часто — невозможно [Николаев, Царькова: 6–10]. Столь же актуальной проблемой в отношении эпитафий (как и в отношении других эпиграфических памятников) является дифференциация чисто информативных (прагматических) и риторически украшенных (назовем их «декорированными») разновидностей жанра. Непреодолимого барьера между двумя разновидностями не существует и в этом случае.
Двоякое видовое различие — по функции и по словесному оформлению — находим уже в эпитафиях древних греков и римлян, которые весьма преуспели в риторическом декорировании эпиграфических сочинений всех сортов [Guarducci: 379–417]1. Уже тогда эпитафии не только вырезались на могильном камне — их тексты широко распространялись и в устной (удержанные в коллективной памяти, они воспроизводились с вариациями на новых погребениях), и в письменной форме. Вспомним хотя бы автоэпитафию Эсхила, шуточную эпитафию комару Вергилия. От тысячелетней истории Византийской империи, наследовавшей культурные богатства классической древности, осталось, однако же, ничтожное количество снабженных надписями надгробий in situ. Такое положение вещей объясняют, с одной стороны, неграмотностью основной массы населения, с другой — снобизмом, присущим социальной и интеллектуальной элите империи. Представителей элиты хоронили обычно при монастырях и церквах, по большей части стертых с лица земли после гибели империи [Lauxtermann: 215]. Напротив, на страницах греческих рукописей можно прочитать немало эпитафий, в основном стихотворных, среди них и произведения, вышедшие из-под пера видных литераторов. Но их наследие относится к верхнему пласту утонченной византийской культуры, к тому пласту, который средневековые славяне категорически отказывались перенимать.
Откуда берет свое начало история русской эпитафии? Долгое время в Древней Руси обходились без каких-либо надписей на надгробиях. Впервые они фиксируются на памятниках довольно поздних — датирующихся самым концом XV в., и они походили не столько на эпитафии, сколько на владельческие надписи, делавшиеся тогда на предметах быта [Беляев: 246–265]. Надгробие рассматривалось как имущество покойного или тех его родственников, которые заказали камень. Начиная с первой четверти XVI в. получают распространение формализованные надписи, с обозначением даты, на которую пришлась кончина погребенного, и его имени. Полагают, что запрос на них был обусловлен регламентацией церковного поминовения умерших, с обычаем чтения и службы непосредственно над могилой. В качестве функциональных предшественников надгробных надписей признают, во-первых, граффити, сделанные на стенах храма и извещающие о смерти кого-то, порой в сопровождении молитвы, во-вторых, летописные сообщения о смерти того или иного героя повествования. Сухость содержания, присущую надписям, которые выбиты на старших надгробиях, Л. А. Беляев считает их родовым признаком. Все же в последние годы специалисты разыскали несколько намогильных камней с текстами, которые выходят за рамки скупого формуляра, принятого тогда для эпитафий. Так, на плите 1561/1562 г. из Волоколамска находим добрые пожелания тому, кто удосужится прочитать несколько слов, составляющих саму эту короткую надпись: «А хто чтетъ, тому на здравье и на спасенье» [Авдеев, 2019: 243]. На фрагменте плиты из Московского Новоспасского монастыря знатокам эпиграфики удалось опознать отрывок из духовного стиха «Зрю тя, гробе…», бывшего в те годы у всех на устах: «Ох, ох, смерть, смерть, кто тя можетъ избежати» [Авдеев, 2024].
Эпитафии, украшенные («декорированные») всеми цветами риторики, получили в московской словесности права гражданства сто лет спустя. Таковы, в частности, образцы жанра, сочиненные классиками русского литературного барокко, которые внедрили в стихосложение изосиллабические вирши, — Симеоном Полоцким, Сильвестром Медведевым, Карионом Истоминым. Примечательно, что одновременно с появлением «декорированных» текстов, которые вырезали на камне, распространяется манера копировать эпитафии на страницах рукописных кодексов и даже собирать такие тексты в своеобразные антологии. Более того, относительно некоторых представителей жанра, читающихся в рукописях, нельзя однозначно утверждать, что они вообще когда-либо украшали надгробия. Промежуточным звеном между сухим протоколом первых надписей на камне и витиеватыми эпитафиями, сочиненными силлабическими стихотворцами, можно считать текст, которому посвящена настоящая работа и который заслуживает того, чтобы занять свое скромное, но законное место в истории жанра.
Эпитафия, которую мы публикуем в Приложении к статье, сохранилась только на бумаге и только лишь в двух списках. Оба списка находятся в рукописях, представляющих собой собрания сочинений Максима Грека, причем собрания двух разных типов. Для понимания того, что это значит, необходимы разъяснения. В отличие от писаний, составленных большинством других московских книжников и переписывавшихся обыкновенно в кодексы разнообразного состава, труды Максима Грека копировались в одну книгу. Получался том, напоминающий в чем-то собрание сочинений писателя или поэта нового времени. Археографы выявили целую серию таких рукописных собраний, составленных из текстов Максима Грека, собраний, которые различаются по набору этих текстов и последовательности их расположения [Синицына, 1977: 223–279], [Буланин, Шашков]. При копировании собраний позднейшими переписчиками их состав, как правило, оставался неизменным. Как установила Н. В. Синицына, первые типы подобных собраний, постепенно разраставшихся в объеме, комплектовал сам автор. Сначала это был сборник из 12-и глав, потом из 25-и, потом из 47-и, наконец, из 73-х. В то время как первые два не отложились в чистом виде в рукописной традиции, так что их содержание реконструируется специалистами, собрание из 47-и глав, называемое условно Иоасафовским, есть старший из типов, который мы встречаем в реально дошедших рукописях. По мнению Н. В. Синицыной, в древнейшей рукописи с этим собранием (РГБ, ф. 173/I, собр. Московской духовной академии фунд., № 42) находится правка, выполненная рукой автора.
Помимо указанной, Иоасафовское собрание сохранилось еще в нескольких рукописях, тождественных по составу [Синицына, 1977: 223–228]. Занимающий нас текст находится в одной из них: именно в РГБ, ф. 173/I, собр. Московской духовной академии фунд., № 153 (далее И). Однако эпитафия читается здесь не среди тех сорока семи глав, которые образуют данный тип собрания, а за его пределами — на последнем ненумерованном листе книги, оставшемся чистым (л. 578 об.). Записи на таких листах, кем бы они ни делались — автором, копиистом или читателем, имели обычно косвенное отношение к основному содержанию книги или вообще не были с ним связаны. Второй список эпитафии находится в старшей из рукописей, содержащих другой тип собрания сочинений — тот, который получил условное название Троицкого2. Эта рукопись — РГБ, ф. 304/I, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 200 (далее Т) является черновой по отношению к более поздним представителям Троицкого собрания. Хотя Троицкое собрание было составлено позднее, чем Иоасафовское — в первой четверти XVII в. — для восстановления корпуса сочинений и переводов Максима Грека оно столь же ценно, как прижизненное. Работу над собранием, судя по всему, инициировал Дионисий Зобниновский, архимандрит Троицкого монастыря и большой почитатель афонского труженика, проведшего в монастыре последние годы жизни. По-видимому, при подготовке собрания архимандрит использовал ту часть архива писателя, которая осталась после него в монастыре. В Т, как и в И, эпитафия занимает маргинальное положение относительно костяка глав, образующих Троицкое собрание в собственном смысле слова (л. 14 об.).
На каких основаниях мы приписываем Максиму Греку текст, который ни автор, ни распоряжавшиеся его письменным наследием книжники не решались включить в число глав, образующих то и другое собрание? Рассмотрим прежде соотношение двух имеющихся списков. Основным мы признаем список И. Сам кодекс со списком хорошо известен специалистам, потому что симметрично эпитафии, на первом ненумерованном его листе, находится другая уникальная запись — о городе Арте, где родился Максим Грек, и о его родителях. Долгое время считалось, что эта запись, как и весь кодекс, представляют собой автограф писателя. А. И. Иванов признавал автографом текст эпитафии [Иванов: 25, 210]. Ни то, ни другое предположение не может быть принято, потому что рукопись датируется по водяным знакам концом XVI в. Думают, тем не менее, что запись на первом листе восходит к заметкам самого автора или к его устным сообщениям [Синицына, 2008: 16]. Справедливость такого вывода подкрепляется и тем, что кодекс, судя по всему, копировался в Троицком монастыре, и тем, что в записи используются формы на –х родительного падежа множественного числа («христиа-нѣхъ, грекохъ, философехъ»), часто встречающиеся в сочинениях и переводах афонского старца [Соболевский: 263, примеч. 1], [Olmsted: 4]. Атрибуция записи на первом листе может служить первым намеком на то, что эпитафия, расположенная в кодексе симметрично записи об Арте, принадлежит ему же.
Обратимся к списку XVII в. Самое интересное — то, что в Т, в нижней части л. 14, непосредственно перед текстом эпитафии, читается заметка об Арте и родителях Максима Грека, идентичная заметке в начале И. Казалось бы, взаимоотношение списков не оставляет места для сомнений: составители Т скопировали заметку об Арте с первого листа кодекса XVI в., а эпитафию — с последнего листа этого же кодекса. Но, восстановив описанным образом последовательность событий, текстолог сталкивается с непреодолимой трудностью. Дело в том, что эпитафию в Т предваряет надписание, которое резюмирует содержание следующих дальше строк и которое, как и саму эпитафию, есть основания считать переводом с греческого (см. ниже). В И надписания нет. Возможно, дело обстояло следующим образом. Заметка об Арте и эпитафия вместе с надписанием, которое Максим Грек так и не перевел на славянский язык, находились вместе и в той же последовательности в его архиве. К этому архиву обращались независимо друг от друга тот, кто переписал эти тексты в И, и составители Т. В отличие от первого, который, как видно, не в состоянии был понять греческий текст и опустил его, книжники в окружении троицкого архимандрита кое-что разумели по-гречески (ср. записи на л. 13 об. в Т, где приведены греческие порядковые числительные до сотни) и перевели надписание.
Каково же содержание эпитафии Феодору Тверскому и что можно сказать о ее форме? Интересные соображения по этому поводу находим в статье М. Ю. Федорцовой [Федорцова]. Ее работа производит двойственное впечатление. С одной стороны, попытку исследовательницы уложить церковно-славянский текст в метрические схемы гекзаметра и пентаметра по образцу греческого дистиха нельзя признать реконструкцией, отвечающей научным требованиям. Автор произвольно обращается с редуцированными, устраняет, по мере надобности, зияние, заменяет местоименные формы прилагательных и причастий на краткие, и др. Поставленная в статье цель в принципе не могла быть достигнута: все имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят о том, что Максим Грек не занимался просодическими экспериментами на славянском языке. Заметим, что метрическую организацию искали в писаниях святогорца и прежде М. Ю. Федорцовой. Аргументация искавших строилась на произведениях писателя, церковно-славянскому тексту которых предшествовал сохранившийся или несохранившийся греческий стихотворный оригинал. Так поступила С. Матхаузерова, давшая развернутое обоснование своей точки зрения и выбравшая для этого два произведения Максима Грека [Матхаузерова: 91–100]. Первое из них — это перевод в двух вариантах одних и тех же греческих стихов. Сами стихи в данном случае утрачены. Писатель предназначал их для проверки квалификации того, кто в будущем мог бы явиться в Москву и стал бы из корыстных побуждений хвалиться своими познаниями в греческих словесных науках. Похваляющемуся рекомендовалось дать для перевода с греческого языка сочиненное автором стихотворение «о томъ, како подобаеть входити въ святыя храмы Божия». Дальше экзаменуемому предстояло определить, каким размером, точнее — двумя размерами написано стихотворение («ироискою и елегиискою мѣрою», т. е. гекзаметром и пентаметром), и представить просодическую характеристику каждого. Второе произведение, привлеченное С. Мат-хаузеровой, — это принадлежащий нашему автору перевод известного пророчества Сивиллы («Строки Сивилы пророчицы о Втором преславном пришествии Спаса Христа»), греческий подлинник которого написан гекзаметром. Произвольно перенеся на церковно-славянский текст древнегреческие метрические схемы, основанные на оппозиции долгих и кратких гласных, исследовательница утверждает, что Максим Грек использовал в переводах принципы квантитативного стихосложения. Из-за неверного постулата некорректным оказался произведенный С. Матхаузеровой пересчет слогов в славянском переводе. Примечательно, что даже при допущенных при реконструкции натяжках предполагаемая метрическая схема в разбираемом тексте постоянно нарушается. В конечном счете исследовательница неправильно восстанавливает соотношение двух размеров в утраченном оригинале первого из указанных произведений, хотя стихотворная форма составлявших его оригинал шестнадцати строк (элегический дистих) однажды уже была определена [Петровский].
Предположения о том, что некоторые произведения Максима Грека, доступные нам только на церковно-славянском языке, представляют собой перевод греческих стихов, сочиненных самим автором или кем-то другим, — выдвигались не один раз. Так, по мнению А. И. Соболевского, стихами были написаны четыре кратких похвалы мученикам, которые завершают собрание в 47 глав и прямо в заголовке названы по-гречески «епи» (ἔπη) [Соболевский: 264]. П. Бушкович добавил к этим «епи» еще одно произведение афонского старца, предположительно написанное греческими стихами и получившее в славянской версии заголовок «Кая словеса рекл бы Петр, отвергъся Христа» [Бушкович]. И. Шевченко, в свою очередь, отыскивал следы греческого стихотворного оригинала в славянском тексте Слова на иудеев [Ševčenko: 1–70]. Все названные произведения в доступном нам виде написаны прозой, и никто, кажется, не пытался примерить к их церковно-славянскому языку какую-либо систему версификации. Любые сомнения по данной проблеме отпали с той поры, как П. Бушкович отыскал греческий вариант двух статей Максима Грека, известных прежде только на церковно-славянском («Слово о покаянии» и «Слово на еллинскую прелесть»). Теперь мы знаем достоверно, что произведения были написаны по-гречески элегическим дистихом, а потом переведены прозой, причем И. Шевченко доказывает, что перевод выполнен самим сочинителем. Максим Грек подвел своему решению о том, как нужно воспроизводить стихи, своеобразное «теоретическое» обоснование, заявив, что славянский язык еще не упорядочен науками тривиума, даже первой из них — грамматикой. «Учение то, — писал он о грамматике, — у насъ, у грековъ, хытро зѣло, а не и у васъ, зань же у насъ философи были изначяла велики и премудри» [Ягич: 594]. Обучение искусству стихосложения находилось в византийской школе в компетенции грамматика [Jeffreys: 96], поэтому для каждого прошедшего такую школу, было очевидным: если нет грамматики, не получится и никакой версификации.
Итак, церковно-славянский текст эпитафии не имеет ничего общего с метрической моделью, искусственно сконструированной М. Ю. Федорцовой. Вместе с тем автор статьи об эпитафии, продемонстрировавший глубокое знание квантитативной системы стихосложения и даже предложивший в качестве tour de force собственный обратный перевод нашего памятника элегическим дистихом, сделал по поводу этого памятника серию метких наблюдений. Верной является, прежде всего, мысль о том, что доступный нам текст представляет собой перевод греческого стихотворения. Весьма правдоподобно и предположение, что оригинал был написан дистихом. Эту форму, наряду с гекзаметром, чаще всего применяли греки, сочинители эпитафий, ее любил и не один раз использовал в своих поэтических опытах Максим Грек. Среди прочего, элегическим дистихом он написал в годы жизни на Афоне эпитафию Константинопольскому патриарху Нифонту, а также эпиграмму, посвященную здравствующему Мануилу Великому Ритору3. М. Ю. Федорцова обратила внимание на параллель между зачином нашей эпитафии («Кто и откуду еси? Тфе-ритинъ. Наречениемъ кто? Феодоръ») и завершающими строками в эпиграмме («Откуда же он происходит и как его имя? Мануил / имя его и Истм его родина»). Параллель имеет большое значение, потому что такая манера представить своего героя проецируется на тексты гомеровских поэм. Факт этот может быть поставлен в один ряд с гомеризмами в языке грекоязычных стихотворений Максима Грека и с встречающимися в его писаниях цитатами из Гомера. Стоит учитывать, что гомеризмы составляли с древнейших времен чуть ли не обязательный элемент греческих эпитафий [Guarducci: 388].
Размышляя об отражении, какое мог дать предполагаемый греческий оригинал эпитафии в доступном нам переводе, приходим к выводу, что короткий текст памятника состоит, тем не менее, из двух пластов. В отличие от первого — общего для двух списков, второй пласт — надписание, имеющееся только в Т, отличается противоестественной для славянского языка расстановкой слов: «Ея же желаше Феодоръ, присно юности от своея, лицемъ къ лицу покланяемую нынѣ зритъ Троицу». Полагаем, что такая структура фразы сохранила следы пословного перевода с греческого, где, быть может, текст представлял собой двустишие. Если первый пласт, скорее всего, вышел из-под пера самого автора, то второй, вероятно, принадлежит менее искушенному переводчику (чем и объясняются бросающиеся в глаза инверсии), которого предположительно нужно искать в окружении архимандрита Дионисия.
По своей композиции и по использованным в нем мотивам и образам рассматриваемое произведение находит близкие аналогии в необозримой литературе древнегреческих и византийских эпитафий и родственных им монодий. Обмен репликами с покойником, или монолог (речь живого к умершему, а иногда наоборот — умершего к живому) — все это весьма распространенный способ организовать текст, как правило, лапидарный. Г. Хунгер выделил несколько наиболее распространенных моделей, применявшихся византийскими сочинителями стихотворных эпитафий и монодий для того, чтобы включить в их состав прямую речь: 1) все содержание эпитафии составляет обращение автора к покойнику; 2) эпитафия начинается с экспозиции, лишь за ней следует обращение автора к покойнику; 3) автор создает словесную рамку, включая в нее обращение к покойнику тех, кого покойник покинул на земле; 4) тот, кто остался на земле, самостоятельно обращается к покойнику; 5) право голоса целиком отдается самому покойнику; 5) эпитафия облечена в форму просопопейи (например, Константинополь обращается к императору Иоанну II Комнину) [Hunger: 163–164]. Максим Грек выбрал первую из моделей — как видно, наиболее распространенную. Сообщение о том, что умерший лицезреет триединого Бога, относится, конечно, к самым популярным мотивам христианских эпитафий, находящим, впрочем, поддержку в дохристианских образцах жанра. Согласно тексту некоторых античных эпитафий, душа умершего проводит время в обществе Зевса, иногда она утешается с целой компанией бессмертных [Lattimore: 33–35]. Византийские мастера слова, преемником которых по праву считается Максим Грек, достигли виртуозности в варьировании одних и тех же мотивов, набор которых по необходимости был ограничен самой темой, определяющей жанровую природу эпитафии, — темой смерти. Отметим в связи с этим, что указание нашего автора на Премудрость Божию, которую «зрит» герой, скрывает неявные ассоциации со стихом из Книги Премудрости Соломона. Там говорится, что Премудрость «сияние бо есть свѣта присносущнаго и зерцало непорочно Божия дѣйствия и образъ благостыни Его» (Прем. 7:26, ср. 1 Кор. 13:12).
Осталось обсудить самую сложную проблему — кому афонский старец посвятил анализируемый памятник? Единственные достоверные сведения о герое эпитафии сводятся к объявленным в тексте его имени и катойкониму — Феодор Тверитин. Предлагаемая далее гипотеза основана на этом, признаемся откровенно, не слишком надежном фундаменте. Прежде всего, с большой долей вероятности можно думать, что эпитафию покойнику-тверитину наш автор составил тогда, когда сам находился в Твери. Туда — под надзор Тверского епископа Акакия — старец был переведен из Волоколамского монастыря после вторичного осуждения на соборе 1531 г. Однако историки не пришли к единому мнению о том, когда это могло произойти. Terminus ante quem позволительно установить как 22 июля 1537 г., когда в Твери случился грандиозный пожар, уничтоживший кафедральный собор, — событие, на которое ученый старец откликнулся специальным сочинением. Сочинение это с пространнейшим заголовком, начинающимся словами «Какыа рѣчи реклъ бы убо к Съдѣтелю всѣм епископъ тферьскый…» (калька греческого τίνας ἂν εἴποι λόγους), представляет собой этопейю, риторический жанр, который не раз использовал Максим Грек и в других своих творениях. Тверской епископ будто бы спрашивает у Господа Бога, за какую провинность он, никогда не ленившийся совершать торжественные богослужения и всячески украшать храм, понес столь жестокое наказание. В ответ Вседержитель, согласно тексту этопейи, отвечает, что Он требует от служителей церкви, прежде всего, не праздничного пения и дорогих украшений, а исполнения заповедей Божьих, начинающихся с заботы о ближнем. Между тем тверское духовенство, погрязнув в грехах, отвернулось от нищих и убогих4.
Спровоцированная тверским пожаром этопейя, судя по всему, принесла автору немало неприятностей, рассорив его с епископом Акакием, которому, понятное дело, не понравились слишком резкие обличения церковнослужителей. Кроме того, у русских книжников, не искушенных в риторических премудростях, вызвал сомнения сам жанр произведения. Пристало ли смертному, задавались они вопросом, приписывать собственные слова Богу? Полагая, что ему грозит осуждение на новом соборе, и стараясь предупредить опасное для себя развитие событий, Максим Грек написал «Отвѣтъ въкратцѣ къ святому събору, о нихъ же оклеветанъ бываю», где пытался объяснить и оправдать свой литературный прием [Филарет: 84–91]. С епископом он постарался примириться, составив похвалу на обновление собора, в которой подчеркивал проявленное Акакием в этом деле усердие («Сложение вкратцѣ о бывшем пожарѣ тферьском, тако же и похвала о обновлении церковьнаго украшениа, бывшаго боголюбивымъ епископом тферьскым Акакыем»)5. Кроме того, используя еще один риторический жанр — просопопейю, святогорец написал «Рѣчи отъ амвона къ въсходящимъ на немъ попомъ и диакономъ»6. Для этого же сооружения, вероятно, напоминавшего известный амвон Новгородского архиепископа Макария 1533 г., предназначалась панегирическая надпись, в которой вновь восхвалялся Акакий как создатель столь важного элемента церковного интерьера7.
В соборе и в его приделах традиционно размещались захоронения местных князей и иерархов, надгробия их не могли не пострадать при разрушительном пожаре, какой бушевал в Твери [Топычканов]. Осмелимся высказать предположение, что наша эпитафия, будучи очередным риторическим опытом святогорского старца, мыслилась как украшение одной из обновленных после бедствия соборных гробниц. Какой же именно? Наша гипотеза сводится к тому, что героем эпитафии является самый знаменитый из тверских архиереев — епископ Феодор II Добрый. По сообщению летописи, умерший в 1367 г. Феодор был положен в приделе Введения пречистой
Богородицы8. Вспомнить об этом иерархе было как нельзя более уместно в связи с восстановительными работами Акакия, потому что в свое время Феодор тоже, не покладая рук, трудился над украшением собора9. Если принять нашу посылку, глубоким смыслом наполняется данная в эпитафии характеристика Феодора как «рачителя неблазненыя христианскиа Премудрости» и утверждение, что в раю он, наконец, узрел объект своих земных стремлений. Ведь не кто иной, как епископ Феодор является адресатом «Послания о рае» Василия Калики. Можно добавить, что «рачителем» Божественной мудрости, наилучшим образом обустроившей рай для праведных, был не только тверской епископ, но и сам автор эпитафии. В своих произведениях он много раз возвращался к тайне райского бытия — к теме, которая не могла оставить равнодушным никого из православных.
На пути к признанию предложенной гипотезы стоит одно, но очень серьезное препятствие: в тексте эпитафии не только не обозначен архиерейский чин почившего — там не указано даже, что почивший принадлежал к духовенству. Небеспочвенным, соответственно, является вывод М. Ю. Федорцовой, уверенной, что Феодор был мирянином. Полагаем, наперекор столь вескому контраргументу, что нашу гипотезу о тождестве героя эпитафии и епископа Феодора не стоит все же сбрасывать со счетов. Как мы установили, текст произведения был извлечен из остатков архива Максима Грека, причем извлечен в два приема. Вполне возможно, что на надгробии епископа уже читалась краткая надпись с указанием на сан почившего, а произведение святогорца мыслилось как дополнительное украшение камня. Вспомним еще о лаконичности ранних московских надписей на надгробиях, подчеркивавших равенство людей перед лицом смерти [Беляев: 265]. Если бы эпитафию святогорца, на самом деле, вздумали выбить на чьем-то надгробии, ее словесно «декорированный» текст резко диссонировал бы с надписями на расположенных рядом могилах. Автор, быть может, вовсе не задумывался о будущем эпиграфическом воплощении своего произведения, взявшись за перо для того только, чтобы реабилитировать себя в глазах Акакия, занимавшегося восстановлением собора. С такой именно целью писатель составил упоминавшуюся выше торжественную надпись для амвона — как можно понять по некоторым признакам, тоже изначально написанную по-гречески и тоже написанную стихами. Модальность самого заголовка этой надписи подразумевает, что она является всего лишь предложением сочинителя, которым может воспользоваться, а может и не воспользоваться устроитель амвона: «Сложение быти было подпи-сану на амвонѣ». По какой-то причине работа над эпитафией не была доведена до конца: написав текст по-гречески, писатель лишь частично перевел его на церковно-славянский язык.
Независимо от того, насколько убедительна наша гипотеза, эпитафия Феодору Тверитину остается уникальным явлением в русской словесности XVI в. Памятник представляет ценность и для реконструкции грекоязычного стихотворного наследия Максима Грека, и для истории русской эпитафии как литературного жанра.
ПРИЛОЖЕНИЕ
10 Кто и откуду еси? 11 Тферитинъ. Наречениемъ кто? Феодоръ. Рачитель неблазненыя христианскиа Премудрости, блаженъ воистину убо ты еси, зерцаломъ бо уже разрѣшенымъ самую Ту нынѣ яснѣ зриши.
Основной текст :
РГБ, ф. 173/I, собр. Московской духовной академии фунд., № 153, л. 578 об. (И)
Разночтения :
РГБ, ф. 304/I, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 200, л. 14 об. ( Т )