Эпоха преобразований
Автор: Гуриев Сергей, Цывинский Олег
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Самое важное
Статья в выпуске: 12 (104), 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142169403
IDR: 142169403
Текст статьи Эпоха преобразований
Когда не стоит бояться ресурсного проклятия
Посткризисный период обещает быть очень сложным. Рост экономики будет замедляться — как по внешним, так и по куда более серьезным внутренним причинам. Замедление экономического роста в масштабах всего мира почти наверняка приведет к тому, что цены на нефть так и не поднимутся до предкризисного уровня. Отметим, что прогнозы о снижении темпов мирового экономического роста звучат вполне правдоподобно. Во-первых, развитым странам придется повысить налоги для возмещения средств, потраченных на антикризисные меры, а во-вторых, во всем мире имеет место рост антирыночных настроений. Если события пойдут по менее вероятному сценарию (развитые страны избавятся от долга за счет инфляции), Россия как страна, располагающая существенными валютными резервами, тоже окажется в проигрыше.
Таким образом, даже если цены на нефть останутся высокими, маловероятно, что они достигнут докризисного уровня, и тем более вряд ли продолжат увеличиваться — а это очень серьезная предпосылка для замедления экономического роста России.
Мало того, более жесткое регулирование финансовых рынков во всем мире повысит риск снижения притока инвестиций в развивающиеся страны вообще и в Россию в частности.
Среди внутренних проблем России ключевую роль играет так называемое «ресурсное проклятие». Если цены на нефть останутся высокими, Россия, скорее всего, отложит проведение жизненно необходимых экономических реформ. Для дальнейшего экономического роста требуется создание политико-экономических институтов, которые будут ограничивать полномочия исполнительной власти и обеспечат подлинное верховенство закона, снижение коррупции, усовершенствование системы защиты прав собственности, эффективную и независимую судебную систему, конкурентную среду. Формирование таких институтов — нелегкая задача для любого общества.
В России же это особенно проблематично, поскольку правящая элита в них не заинтересована — по причине все того же «ресурсного проклятия» (при прочих равных условиях богатые природными ресурсами страны демонстрируют менее высокие темпы экономического роста). Раньше более низкие темпы развития богатых ресурсами стран объясняли макроэкономическим эффектом «голландской болезни», однако теперь большинство ученых пришли к мнению, что основным каналом воздействия сырьевой зависимости на долгосрочный политико-экономические институты обусловливают более высокие темпы экономического роста и увеличивают «размер пирога». Но они ограничивают и возможности получения правящей элитой доли ресурсной ренты, стимулируют политическую конкуренцию, а значит — повышают риск замены одной правящей элиты на другую. Как влияет на эти факторы изобилие природ- ных ресурсов? Все очень просто: ресурсная рента снижает заинтересованность в усовершенствовании политико-экономических институтов. В самом деле, чем значительнее ресурсная рента, тем больше ценится причастность к правящим кругам. Кроме того, поскольку рост сырьевых отраслей значительно меньше зависит от степени развития таких институтов, то и выгода от них для стран, богатых ресурсами, ниже.
К сожалению, последний факт порождает своего рода порочный круг. Если богатая природными ресурсами страна располагает слаборазви- тыми политико-экономическими институтами, то едва ли эти институты когда-нибудь будут усовершенствованы, а стало быть, у отраслей, не связанных с разработкой природных ресурсов, шансы на развитие очень низки. Более того, чем выше цены на нефть, тем меньше остается стимулов развивать эти институты.
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
Сырьевая рента перевешивает
В посткризисной России сырьевая зависимость усугубляется двумя факторами.
Во-первых, в связи с масштабной ренационализацией, проводящейся с 2004 года, государственные компании снова получили контроль над командны- ми высотами экономики. В отличие от частного бизнеса госкомпании

Олег ЦЫВИНСКИЙ, доктор экономических наук, профессор Йельского университета и Российской экономической школы
экономический рост, как правило, являются политикоэкономические институты.
В государстве, богатом полезными ископаемыми, для развития политико-экономических институтов гораздо меньше стимулов, чем в стране, аналогичной по другим экономическим показателям, но не изобилующей природными ресурсами. Эти факторы оказывают негативное влияние на экономическое развитие. Интересно, что если богатая ресурсами страна уже располагает развитыми институтами, то «ресурсного проклятия» бояться не стоит. Современное понимание концепции «ресурсного проклятия» не означает, что страны, богатые ресурсами, обречены на отставание; тем более не идет речь и о том, что развитие ресурсных секторов экономики противоречит модернизации или развитию высоких технологий. Концепция «ресурсного проклятия» заключается в том, что в богатых ресурсами странах с неразвитыми институтами совершенствовать институты гораздо труднее.
Как объяснить вышеописанный феномен? Все дело в стимулах. С точки зрения правящей элиты страны с неразвитыми политико-экономическими институтами, преимущества развития институтов, необходимых для экономического роста, никогда не перевесят потери, сопряженные с их формированием. Эффективные не заинтересованы в развитии современных институтов, защищающих частную собственность и обеспечивающих верховенство закона.
Во-вторых, высокий уровень социального неравенства ведет к тому, что большинство населения предпочитает популистские идеи перераспределения доходов развитию частного бизнеса. Несмотря на экономические достижения последних лет социальное неравенство по-прежнему играет огромную роль.
Россияне отлично понимают, что далеко не каждый может занять высокую руководящую должность, и это подрывает их веру в капиталистическую экономику, а значит, они не поддерживают укрепление прав частной собственности. Большинство россиян полагают, что высокое благосостояние может быть лишь следствием криминальной деятельности и наличия политических связей. Лишь 20% верят, что для достижения богатства необходимы личные таланты. Такое отношение укрепляет сложившееся положение вещей. Численность российского среднего класса относительно мала, интеллектуальная и деловая элита еще малочисленнее, остальные же не рискуют заводить собственный бизнес и не поддерживают экономико-политическую либерализацию. Всего 36% россиян поддерживают демократию, а рыночные реформы — 28%.
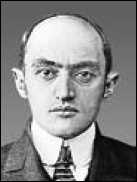
Йозеф Шумпетер (1883–1950), австрийский экономист, ввел в употребление термин «созидательное разрушение», на котором основан посткризисный экономический рост. Экономика может развиваться только при условии уничтожения старых компаний, методов ведения бизнеса и идей, на место которых приходят более эффективные и доходные.
Российская элита прекрасно отдает себе отчет во всех этих проблемах. И все же желание выбраться из ресурсной ловушки отступает перед необычайной привлекательностью сырьевой ренты.
Самоочищение экономики
Посткризисный экономический рост, как правило, основан на «созидательном разрушении». Этот термин ввел в употребление австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950). Экономика, как показал Шумпетер, может сохранять жизнеспособность и развиваться только при условии уничтожения старых компаний, методов ведения бизнеса и идей, на место которых приходят новые — более эффективные и доходные.
Во время кризисов темпы самоочищения экономики значительно возрастают, что заставляет убыточные компании вставать на защиту своих позиций. Политики и лоббисты не жалеют сил для сохранения «динозавров» — под лозунгом помощи «реальному сектору» или спасения заслуженных ветеранов, ставших символами отечественной промышленности (таких, как АвтоВАЗ в России или General Motors в Америке). Случается, что представители «старой экономики» выигрывают битву за государственные ресурсы или защиту от конкуренции. Однако их победа означает поражение всех остальных. Искусственная поддержка неэффективных компаний, имеющих политическое влияние, возможна только за счет денег налогоплательщиков и конкурентов. Объемные денежные вливания в нерентабельные фирмы, обреченные на банкротство или ликвидацию, отбрасывают экономику на много лет назад.
Возведение барьеров на пути «созидательного разрушения» дорого обходится экономике и обществу. Филипп Агийон и Питер Хауит (создатели современной версии концепции Шумпетера — экономической теории эндогенного роста) демонстрируют это, сравнивая Европу — с ее высокими барьерами для входа на рынок и мерами по защите занятости — с Америкой, где барьеры для бизнеса не столь высоки. Около 50% всей новой фармацевтической продукции США производится компаниями, образованными меньше десяти лет назад; в Европе тот же показатель составляет лишь 10%; 12% крупнейших американских компаний были созданы в течение последних 20 лет, в Европе — только 4%. В недавно опубликованном обзоре эмпирических исследований эффективности «созидательного разрушения» специалист по макроэкономике Рикардо Кабальеро приходит к заключению, что в долгосрочной перспективе на механизм Шумпетера приходится 50% роста производительности. Кроме того, он исследовал рост производительности в 60 странах и влияние на этот рост механизмов социальной защиты (таких, как барьеры для увольнения сотрудников) и пришел к выводу, что в странах с избыточной социальной защитой темпы роста производительности на 0,9–1,2% ниже, чем там, где эта защита не столь сильна.
Важно отметить, что после кризиса в странах с чрезмерно высоким уровнем государственного регулирования темпы роста были на 30% ниже. Еще один значительный аспект самоочищения экономики — свободная международная торговля, характеризующаяся отсутствием серьезных торговых ограничений и низкими пошлинами. Так, в секторах, где таможенные тарифы были существен- но снижены благодаря соглашению о свободной торговле между Канадой и США, производительность возросла на 15% — отчасти в результате сокращения малопродуктивных рабочих мест, составившего 12% от общего числа занятых сотрудников.
Теория Шумпетера имеет особое значение и для России. В советское время механизмы конкуренции и «созидательного уничтожения» практически не работали. Результатом в конечном итоге явилось полное банкротство Советского Союза. Проблема ограничения «созидательного разрушения» усугубляется в России несовершенством законодательства о банкротстве, которое представляет собой серьезное препятствие для работы механизмов самоочищения экономики.
Кризис 1998 года показал, что без активного вмешательства со стороны государства российская экономика может относительно быстро вернуться на траекторию роста. Сейчас государство располагает куда более значительными финансовыми ресурсами, чем десять лет назад, и это обстоятельство не только обеспечивает дополнительные возможности, но и создает соблазн пойти по пути протекционизма и интервенционизма, то есть предоставить дешевые кредитные ресурсы крупным и влиятельным компаниям, поддержать национальную промышленность, повысив таможенные пошлины, или вынудить компании создавать избыточные рабочие места. Политики должны помнить, что быстро восстановить экономику после кризиса, как и заложить основы долговременного экономического роста, без «созидательного разрушения» невозможно — и что такое разрушение нужно не ограничивать, а поддерживать.
Реформы: не надо изобретать велосипед
Быстрый рост российской экономики после кризиса будет очень сложно обеспечить. Во-первых, потому, что едва ли можно надеяться на такие же благоприятные внешние условия, как и во время президентского правления Путина, а во-вторых, потому, что практически исчезла заинтересованность в реформах. Тем не менее мы считаем уместным и необходимым изложить наше видение этих преобразований. Наш список не включает политическую децентрализацию и либерализацию, однако реформы скорее всего дадут старт и этим процессам. Разрубить гордиев узел проблем одним махом, увы, не выйдет, волшебных рецептов модернизации не существует. Большинство мер, которые мы собираемся описать, суть базовые экономические преобразования, осуществление которых приведет к значительному повышению темпов роста российской экономики. Мы хотели бы подчеркнуть, что не собираемся изобретать велосипед: очень многие из предлагаемых нами реформ были в списке первоочередных экономических задач еще в 2000 году. Тогдашний план (так называемая «Программа Грефа», названная по имени ее главного автора, бывшего министра экономического развития Германа Грефа) был принят российским правительством в самом начале первого президентского срока Путина в качестве официальной стратегии на 2000–2010 годы, однако большинство его пунктов так и не было выполнено.
На пути осуществления «Программы Грефа» встали проблемы, общие для всех стран, страдающих от сырьевой зависимости. Мы имеем в виду прежде всего ограниченные возможности реформаторов: сторонников преобразований в правительстве мало, а групп, заинтересованных в дележе ресурсной ренты, — много.
Стимулировать реформы можно с помощью двух условий: наличия критической массы заинтересованных сторон и внешней точки опоры. Критическую массу ники принципа конкуренции, прав собственности и обеспечения исполнения контрактов. Как только наберется достаточное количество владельцев малых предприятий, они составят мощное лобби, выступающее против коррупции и грабительского бюрократического регулирования бизнеса.
Обе вышеописанные меры обеспечат создание сред- него класса, кровно заинтересованного в продолжении
Возведение барьеров на пути «созидательного разрушения» дорого обходится экономике и обществу.
реформ. Очень важно сочетать эти меры с плоской шкалой подоходного налога и регрессивным соци альным налогом. Учитывая глубоко укоренившееся в обществе отношение к предпринимательству как к «криминальной», а не законной деятельности, система налогообложения должна быть построена таким образом, чтобы предприниматели были более заинтересованы платить налоги, нежели уклоняться
Призыв де-факто облагает допол нительным налогом бедней шие слои общества, усугубляя социально экономическое неравенство в России.
(то есть достаточное количество частных собственников) потенциальных сторонников реформ можно обеспечить двумя основными способами. Первый — приватизация больших компаний. Новоиспеченные собственники будут знать, что их успех напрямую зависит от создания рыночных институтов. В отличие от 1990-х годов сейчас налицо все условия для приватизации, мало того — она должна обеспечить значительные бюджетные поступления. За последние годы было проведено несколько успешных конкурентных приватизационных торгов и первичных публичных размещений акций (IPO), включая крупномасштабную приватизацию генерирующих мощностей в рамках реформы электроэнергетического сектора. Эффективность рынка капитала сейчас гораздо выше, а корпоративная отчетность — значительно более информативна, чем в начале 1990-х. Безработица — сильный аргумент противников приватизации — не должна стать серьезной проблемой для посткризисной России. Вспомним: перед кризисом главным фактором, ограничивающим экономический рост, был недостаток рабочей силы.
Второй способ создания критической массы сторонников реформ — дальнейшее (и решительное) дерегулирование малого бизнеса, призванное обеспечить его широкое распространение и развитие. Дело в том, что мелкие предприниматели — это самые рьяные побор-

PHOTOXPRESS
от них, — и тем самым повышать свою социальную легитимность.
Поиск точки опоры
Следующим ключевым шагом должен стать поиск внешней опоры для осуществления реформ. Страны Центральной и Восточной Европы, приступая к проведению институциональных изменений, опирались на членство в Европейском союзе. Россия лишена столь надежного якоря. Но даже и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ОЭСР могло бы оказать существенную помощь. Поскольку обе упомянутые организации помогают отстаивать верховенство закона в интересах как отечественных, так и зарубежных инвесторов, именно эту задачу необходимо декларировать и решать в качестве первоочередной.
Двумя другими внешними якорями являются: 1) укрепление рубля и получение им статуса международной резервной валюты и 2) построение в Москве финансового сектора, обладающего конкурентоспособностью на международных рынках. Обе идеи сегодня могут показаться утопичными, однако при наличии достаточного упорства и терпения в течение продолжительного времени их вполне можно осуществить.
В качестве резервной валюты рубль мог бы пользоваться спросом в связи с тем, что представляет собой неплохое средство защиты от роста цен на нефть. Если бы темпы инфляции рубля были невысокими, а обменный курс — гибким и свободным от политических рисков, многие страны — импортеры нефти охотно приобрели бы рубли или рублевые облигации. Москва естественным образом стала экономической столицей посткоммунистического мира. У нее имеются все предпосылки для того, чтобы превратиться и в международный финансовый центр — при условии усовершенствования финансового регулирования и инфраструктуры. Реформы, требуемые для достижения обеих вышеуказанных целей, насущно необходимы России и вне этих задач. Обретение внешних якорей нужно для создания механизма внешней оценки успешности этих преобразований.
При наличии таких внешних якорей макроэкономическая политика вырисовалась бы вполне четко. Россия должна двигаться к таргетированию инфляции (при постепенном снижении планируемого уровня) и к плавающему обменному курсу. Но здесь кроется одна серьезная

ИТАР-ТАСС
На пути «Программы Грефа» встали проблемы, общие для всех стран, страдающих от сырьевой зависимости: сторонников преобразований в правительстве мало, а групп, заинтересованных в дележе ресурсной ренты, — много.
проблема. Планирование уровня инфляции требует наличия функционирующей кривой доходности рубля. А это, в свою очередь, означает, что у России должны быть внутренние займы, что чревато вытеснением заемщиков частного сектора и в итоге — положительными реальными процентными ставками, которых в последнее время в России не было. С другой стороны, при снижении инфляции и положительной реальной процентной ставке увеличиваются сбережения домохозяйств, повышаются стабильность и эффективность финансовых рынков, следствием чего становится снижение стоимости долгосрочного капитала для бизнеса.
Впрочем, таргетирование инфляции сопряжено и с политическими проблемами. Задача осложняется тем, что Центробанк де-факто не обладает полной независимостью от правительства. Добиться ее непросто — но возможно. Назначить независимых членов в Комитет по денежной политике не сложнее, чем выдвинуть кандидатуры независимых директоров компаний, на 100% принадлежащих государству, — а с последней задачей российское руководство успешно справилось в 2008 и 2009 годах. Оптимизация денежной политики должна привести к ускорению развития финансовой сферы (за счет снижения инфляции и усовершенствования системы регулирования) и благотворно повлиять на несырьевые отрасли экономики.
Ключевой реформой должна также стать реструктуризация государственных компаний и их последующая приватизация. Российское правительство консолидировало собственность и создало крупные государственные корпорации, зачастую доминирующие в своих отраслях. В экономической литературе можно найти бессчетное количество свидетельств тому, что такие компании менее эффективны, чем частные. Более того, их неэффективность ложится достаточно тяжким бременем на все остальные предприятия, поскольку они оттягивают на себя финансовые и трудовые ресурсы. Помимо реструктуризации энергетических и транспортных монополий, России необходимо заняться стимулированием прямых зарубежных инвестиций и повышением регулируемых тарифов, чтобы обеспечить рост эффективности энергопотребления.
Призыв — дополнительный налог
Есть еще несколько реформ, которые можно отнести к разряду необходимых, но которые требуют высоких финансовых затрат. Первая — реформа армии. Возможно, кто-то сочтет, что этот вопрос практически никак не соприкасается с экономикой. Такая точка зрения в корне неверна. Нынешняя ситуация, когда комплектация армии производится главным образом за счет призыва, в значительной степени задает социальное расслоение, которое, в свою очередь, является питательной средой для создания и поддержания неравенства доходов и возможностей разных групп населения. Российские экономисты Михаил Локшин и Руслан Емцов показывают, что бремя призыва в армию ложится в основном на бедные и менее образованные слои российского общества, в сущности, выливаясь для них в весьма весомый скрытый дополнительный подоходный налог. Вероятность быть призванным на воинскую службу заметно ниже в городах с населением, превышающим 100 тыс.: у молодого человека из Москвы или Санкт-Петербурга шанс попасть в армию в шесть раз ниже, чем у его сверстника, живущего в сельской местности. Для юношей призывного возраста из самых богатых российских семей вероятность быть призванными составляет лишь 3%, из беднейших семей — 20%. Призыв означает не только воинскую службу как таковую, но еще и серьезное изменение дохода семей срочников. Локшин и Емцов оценивают его снижение примерно в 15%. Скорее всего, эта цифра ниже реальных экономических потерь, поскольку при ее расчете не принималось во внимание то обстоятельство, что по возвращении из армии молодой человек начинает трудовую карьеру, не имея того рабочего стажа, который был бы у него без службы в армии, что не может не сказаться на его зарплате. Кроме того, не учитывается тот факт, что воинская служба сопряжена с куда большим риском для жизни и здоровья, нежели мирная жизнь. Вот почему призыв де-факто облагает дополнительным налогом беднейшие слои общества, усугубляя социальноэкономическое неравенство в России.
Многие сторонники концепции сохранения статус-кво утверждают, что сегодня в российской армии фактически служат добровольцы, а те, кто не хочет служить, откупаются взятками. Это порочная логика. Во-первых, получается, что статус-кво наказывает тех, кто уважает закон. Во-вторых, взятки, выплачиваемые за уклонение от воинской службы, не достаются государству, а стало быть, не являются источником финансирования армии. В-третьих, в армии «бесплатный» новобранец по умолчанию имеет «нулевую цену», а ведь это заведомо меньше, чем его реальная ценность для общества и экономики. Вывод напрашивается: воинская служба должна строиться на полностью добровольных началах; мужчинам и женщинам, служащим в армии, необходимо выплачивать рыночную зарплату. Только так можно повысить эффективность армии и оптимизировать распределение ресурсов в обществе.
Еще одна значительная проблема — пенсионная система. Население России становится старше и малочислен-нее, что ведет к сокращению количества людей трудоспособного возраста и, соответственно, к уменьшению вклада этих людей в экономику. Если реформы так и не будут осуществляться, то отношение средней пенсии к средней зарплате, согласно прогнозам, к 2030 году уменьшится примерно до 17%. По сравнению с сегодняшними 26% — это очень значительное уменьшение, а ведь и нынешняя цифра абсолютно недостаточна. Пенсионная реформа, начавшаяся в 2001 году, не справляется со стоящими перед ней задачами. Пенсионный возраст сейчас слишком низок, причем имеется масса факторов, обеспечивающих заинтересованность людей в максимально раннем уходе на пенсию. Необходимым — хотя и болезненным витых стран в уровне доходов за 10–15 лет? Конечно, легче было бы воспользоваться волшебной палочкой, тем более что существует множество «рецептов» ее изготовления. Это и вертикальная промышленная политика, и горизонтальная промышленная политика, и институты развития (список можно продолжить), однако все они уже были опробованы в течение последнего десятилетия. И что же? Коррупция осталась на прежнем уровне (если не увеличилась), экономика же по-прежнему не диверсифицирована.
«Сценарий 1970–1980-х» — это сохра-

нение статус-кво. Но эта система
Существенное отличие от 1998 года заключается в том, что Россия стала гораздо богаче. С другой стороны, все легкодоступные плоды с нижних веток дерева экономического роста сорваны — не остается ничего иного, кроме как карабкаться выше:
не выдержит еще одного экономического
кризиса.
приниматься за скучное дело «не-изобретения велосипеда», то есть за осуществление экономических реформ. Многие из этих реформ уже включены в намеченную правительством «Долгосрочную
В США 12% крупнейших американских компаний были созданы в течение последних десяти лет, в Европе с ее высокими барьерами для входа на рынок и мерами по защите занятости — только 4%. На фото: Tesla Motors, американская автомобильная компания, ориентированная на производство электромобилей.
с политической точки зрения — шагом на пути построения полностью финансируемой пенсионной системы было бы повышение пенсионного возраста и снижение заинтересованности людей в раннем уходе на пенсию. Экономическая наука предлагает вполне четкие рецепты создания подобных стимулов.
Но остается вопрос: кто и как будет финансировать все эти преобразования (и другие тоже — реформу образования, например, или здравоохранения). Если проводить их в одной связке с другими реформами, часть затрат может быть покрыта за счет возросших объемов прямых зарубежных инвестиций (при условии, что другие реформы улучшат деловой климат и помогут взять под контроль коррупцию), а также за счет увеличившихся сбережений домохозяйств (если благодаря другим реформам будет оптимизировано функционирование финансового рынка, выстроены консервативная денежная политика и эффективная бюджетная стратегия). Другой путь — зарубежные займы. Эта дверь открыта, поскольку у России практически нет иностранного государственного долга.
Осуществление описанных реформ — процесс болезненный, рискованный и неприятный. Имеется ли какая-то альтернатива модернизации и диверсификации? Можно ли другим способом сократить отставание от раз- стратегию развития» (документ, известный под названием «Концепция–2020»). Проблема заключается в том, что — ровно так же, как в случае с «Программой Грефа» в 2000 году, — «Концепция–2020» может никогда не воплотиться в жизнь. Такое развитие событий было бы равнозначным «инерционному сценарию», обрисованному в «Долгосрочной стратегии». Ничего невозможного в подобном исходе нет. Мало того, он как раз представляется наиболее вероятным — учитывая «ресурсное проклятие» и отсутствие заинтересованности в реформах.
Что дальше?
Россия может выбрать один из двух путей: 1) непростые экономические реформы, которые заложат основы повышения темпов экономического развития, или 2) «сценарий 1970–1980-х», подобный брежневскому застою.
Если экономические реформы так и не будут осуществлены, Россия, скорее всего, вступит в новое десятилетие стагнации по образцу брежневской эпохи застоя. Аналог подобного развития событий — «потерянное десятилетие» Японии 1990-х, когда уже после того, как острая фаза экономического кризиса миновала, японская экономика в течение десяти с лишним лет развивалась черепашьими темпами.
Когда осенью 2008 года российская экономика была близка к коллапсу, казалось, что необходимость двигаться вперед вынудит правительство пойти на радикальные

REUTERS
экономические реформы, и в итоге Россия получит современную быстроразвивающуюся экономику. Непосредственная реакция российских властей на кризис и впрямь была вполне разумной и эффективной. Но никаких мер по стимулированию долгосрочного роста так и не было принято.
«Сценарий 1970–1980-х» — это сохранение статус-кво. Но эта система не выдержит еще одного экономического кризиса. У России уже не будет за спиной хоть сколько-то продолжительного периода непрерывного, быстрого развития экономики — а ведь именно такой период в свое время позволил ей частично наверстать отставание от стран — членов ОЭСР, а также накопить значительные резервы, спасшие экономику во время последнего кризиса. Единственным выходом из создавшегося положения нам представляются экономические реформы.


