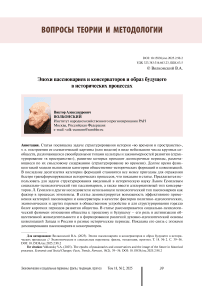Эпохи пассионариев и консерваторов и образ будущего в исторических процессах
Автор: Волконский В.А.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Вопросы теории и методологии
Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена задаче структурирования истории «во времени и пространстве», т. е. построения ее схематической картины (или модели) в виде небольшого числа крупных сообществ, различающихся своеобразными типами культуры и закономерностей развития (структурирование «в пространстве»), развитие которых проходит долгосрочные периоды, различающиеся по их смысловому содержанию (структурирование во времени). Долгое время функции такой модели выполняли категории общественно-исторических формаций и цивилизаций. В последние десятилетия категории формаций становятся все менее пригодны для отражения быстро трансформирующихся исторических процессов, что показано в статье. Предлагается использовать для задачи структурирования введенный в историческую науку Львом Гумилевым социально-психологический тип пассионариев, а также ввести альтернативный тип консерваторов. Л. Гумилев и другие исследователи использовали психологический тип пассионариев как фактор в процессах этногенеза. В статье демонстрируется возможность эффективного применения категорий пассионарии и консерваторы в качестве факторов политико-идеологических, экономических и других перемен в общественном устройстве и для структурирования гораздо более коротких периодов развития общества. В статье рассматривается социально-психологический феномен отношения общества к прошлому и будущему - его роль в активизации общественной жизнедеятельности и в формировании различий духовно-идеологической основы цивилизаций Запада и России в разные исторические периоды. Показана его связь с эпохами доминирования пассионариев и консерваторов.
Социально-психологические типы пассионариев и консерваторов, эпохи пассионариев, эпохи консерваторов, перемены в общественном устройстве, общественноэкономические формации, образ будущего, образ прошлого
Короткий адрес: https://sciup.org/147251092
IDR: 147251092 | УДК: 323.383:316.663.23 | DOI: 10.15838/esc.2025.2.98.2
Текст научной статьи Эпохи пассионариев и консерваторов и образ будущего в исторических процессах
Введение. Проблема активизации общественной жизни
Для общественных наук необходимо структурирование истории человечества «во времени и пространстве», т.е. построение ее общей схематической картины в виде небольшого числа крупных сообществ, различающихся своеобразными типами культуры и закономерностей развития (структурирование «в пространстве»), которое проходит своеобразные долгосрочные периоды, различающиеся по их смысловому содержанию (структурирование во времени). Первым шагом в создании научной картины подобного рода была разработка категорий общественно-экономических формаций в теории марксизма. В отношении структурирования «в пространстве» разделением человечества на своеобразные сообщества стала теория цивилизаций Данилевского и Тойнби.
В исторической науке предлагались другие признаки и модели структурирования «во времени и пространстве», но картина (или схема) истории, построенная на основе категорий формаций и цивилизаций, долгое время оставалась наиболее удобной и общепризнанной. Однако в последние десятилетия (или в последнее столетие) категория формаций становится все менее пригодной для отражения исторических процессов: это связано с тем, что экономические факторы и проблемы перестают занимать неоспоримые первые места в общей системе факторов исторического развития. В настоящей статье показаны признаки ухудшения адекватности категории формаций. Необходим поиск новых принципов структурирования истории. В статье демонстрируются возможности использования для этого категории социальнопсихологического типа пассионариев, а также феномена отношения общества к образам Будущего и Прошлого.
Чтобы продемонстрировать значимость предлагаемого подхода, начнем с представления конкретной проблемы. Сейчас весь пишущий мир направляет внимание на признаки начала глобального кризиса, который представляется неизбежным и всесторонним. Ожидаемый экономический кризис – далеко не главная его часть. Геополитическое противостояние сторонников однополярного и многополярного мира (ОПМ – МПМ) создает угрозу глобального переворота и разрушения сложившегося мирового порядка, сейчас его можно назвать основным противоречием, определяющим движение истории. Страны делятся на две группы: страны западной цивилизации, где властный центр «заряжен» установкой на распространение своего устройства общества и своего положения гегемона на всю планету (глобалисты), и страны, готовые сопротивляться этому давлению, формирующие многополярный мир. Но, возможно, еще важнее, что это геополитическое противостояние развертывается в условиях угасания духовных энергий великих сообществ, обозначаемых как цивилизации.
В России серьезной частью этого кризиса сейчас является дефицит кадров, конкретнее, дефицит квалифицированных работников для промышленности. Молодежь не хочет идти работать на завод ни в должности рабочего, ни в должности инженера, предпочитая (даже с более низкой зарплатой) сферу услуг. Работа на заводе признается исключительно на «конторско-интеллигентских» должностях. Можно предположить, что в сфере услуг и административноуправленческой деятельности легче, чем в промышленности, повысить свой социальный статус (одновременно и уровень дохода).
Т. Воеводина анализирует мотивы такого поведения1. Главная причина – неприятие работы, связанной с ответственностью и дисциплиной, с ежедневным присутствием на предприятии и регламентированным рабочим днем. Человек хочет «принадлежать себе». Имеют значение комфортные условия труда. Ценится работа в окружении «трех К»: кофе, кондиционер, клавиатура. На предприятиях сферы услуг собственно производительным трудом работников занята очень малая доля времени.
Ни руководителей предприятий, ни самих работников это не беспокоит. Свидетельства и аналитиков, и журналистов, например яркая статья Сергея Ануреева «Чистка «белых воротничков»2, показывают, что руководители не пользуются возможностями сократить число избыточных «белых воротничков», «перекладывающих бумажки», и у них самих стремления к повышению статуса в настоящее время, как правило, не наблюдается.
Недостаток активности граждан и стимулов, пробуждающих и поднимающих энергию общества, – одна из важнейших российских проблем. По моему мнению, при ее решении (как и при решении большинства других проблем, связанных с историческими процессами) не обойтись без использования подходов социальной психологии. Такие подходы разрабатывались еще К.Г. Юнгом, З. Фрейдом, Э. Фроммом и другими великими психологами, а также философами и историками начиная с О. Шпенглера, Льва Гумилева и др. (Волконский, 2002). Их труды дают систему понятий, позволяющих приступить к построению новой теоретической картины исторического развития во времени и в пространстве, новой классификации периодов и цивилизационных различий. Цель настоящей статьи – показать значение этого направления исследований во взаимосвязи с новейшими историческими процессами.
Пассионарии и Консерваторы
В начале ХХ века, как и в настоящий момент, Европа и Россия переживали преддверие кризиса. Его правильнее назвать глобальной катастрофой – две мировые войны, Великая Депрессия. (Будем надеяться, что ожидаемый сейчас кризис не станет такой катастрофой). Чем отличается нынешнее преддверие кризиса от начала ХХ столетия? Это прежде всего социально-психологическое и духовное отличие. Нынешний глобальный кризис не только ожидается, он уже наступил в некоторых сферах жизни человека, в частности – в духовносмысловой (Кьеза, 2019). Культурологи констатируют «идеологический вакуум». Значение идеологических и культурно-психологических факторов часто недооценивается представи- телями наук об обществе. Наука требует опираться на четко очерченные и верифицируемые факты и процессы. Указанные факторы этим требованиям обычно не соответствуют. В настоящее время одна из актуальных проблем как в России, так и в западных странах – необходимость повышения темпов экономического роста. Варианты прогнозов обычно разрабатываются на основе моделей (по существу, бихевиористских), опирающихся на жесткие зависимости объемов производства множества частных и государственных экономических организаций от финансовых и ресурсных параметров, стимулирующих их активность. Такие модели при одинаковых ресурсных ограничениях дадут резко различающиеся результаты, будучи применены в эпоху подъема или в эпоху духовного упадка и рецессии. В эпоху подъема будет гораздо большее число желающих создать свой бизнес, стать предпринимателем или найти новое место работы – более высокооплачиваемое, с возможностями карьерного роста.
В картинах мира, лежащих в основе прогнозов, не хватает показателя, характеризующего общий уровень активности общества. В настоящей статье предлагается при изучении подобных вопросов считать необходимым учитывать психологическое состояние общества, предлагается регулярно использовать понятия, содержание которых относится к психологии, точнее к социальной психологии. А именно введенное Л. Гумилевым понятие пассионариев, людей пассионарного психологического типа. Это люди, обладающие очень большой энергией и направляющие ее на великие дела, как правило, на преобразование общества, готовые рисковать во имя великой цели собственной жизнью и жизнью своего сообщества. Главными стимулами деятельности пассионарной личности, как правило, служат «надличностные» ценности и смыслы, т. е. не индивидуальные, личные интересы, а духовно-идеологические сущности или смысловые установки, связанные с жизнью сообщества, с которым она себя идентифицирует (Волконский, 2002).
Иллюстрацией социально-психологического типа пассионариев могут служить движения нонконформизма в период перестройки в СССР и в 90-е годы, возникновение многочисленных рок-групп социальной направленности («Гражданская оборона», «Инструкция по вы- живанию» и многие другие). Воспоминания об этом времени Олега Судакова3 – это, по существу, документальный фильм о пассионариях, получивших возможность осуществлять свои мечты о свободе: «19 декабря 1993 года большой концерт в ДК Горького… У здания Дома культуры собралось около трех тысяч человек. Директор ДК, посмотрев на пришедшую целую ораву слушателей, отказался впускать их внутрь. Люди протестовали, выкрикивали политические лозунги, потом начались беспорядки: в здании крушили стекла, в приехавший на разгон ОМОН полетели бутылки, булыжники, льдины… В итоге у нас возникло желание продлить то протестное воодушевление. Так была придумана музыкально-политическая акция «Русский прорыв»… Мы стремились к тому, чтобы страна всколыхнулась, чтобы все настоящие, активные, «буйные» личности оказались вовлечены в этот процесс. Возникает точка концентрации, которую можно сравнить с кипением воды».
Л. Гумилев и другие исследователи использовали категорию пассионариев как один из факторов теории этногенеза. В настоящей статье демонстрируется возможность эффективного применения этой категории как одного из факторов более краткосрочных процессов развития обществ. Наряду с пассионариями, предлагается использовать альтернативный социально-психологический тип – консерваторов.
История пяти столетий Нового времени свидетельствует, что факторами, условиями, порождающими такие смыслы и стимулы, охватывающими общество и длительно действующими, могут быть либо капиталистическая система с установкой на личное обогащение и обладание властью, либо надличностные ценности и смыслы, идентификация себя с целями и идеологией общества или крупнейших устойчиво развивающихся организаций. Важнейшей частью этих систем является социально-психологическое представление о целях, представление о Будущем.
Духовно-идеологические основы общества, включая и образы Будущего, резко различаются в странах разных цивилизаций. Опыт 1990-х годов – попытка превратить Россию в капита- листическую страну по западному образцу – свидетельствует, что такое преобразование в России приводит к разрушению социально-экономической системы и сопротивлению всех здоровых сил общества. В работах (Волконский, 2024; Волконский, 2025) представлена концепция противостояния двух цивилизаций: стран «коллективного Запада» и стран формирующейся цивилизации многополярного мира. Идеологическая основа первой – индивидуалистический либерализм, второй – идеология государственности.
Как правило, условия длительной стабильности общества пассионарии начинают воспринимать как «темные времена», как необходимость повернуть траекторию исторического развития (Балацкий, 2024; Волконский, 2025), но им не всегда открывается подобная возможность.
Большая часть общества вовсе не пассионарии, а люди, стремящиеся предотвращать опасности, связанные с резкими изменениями в условиях своей жизни и общества. Их доминирующая первоочередная установка – надежность и устойчивость. Эту часть членов общества следует называть консерваторами (от лат. conservate – сохранять) и уделять ей внимания не меньше, чем пассионариям (Волконский, 2002). Для них образ Будущего не означает образ желаемых или необходимых перемен. Ценности и показатели, характеризующие периоды времени, играют в мировоззрении консерваторов большую роль. Но нередко это не «время Будущего», а «время Прошлого».
Приведем некоторые соображения о роли пассионариев и консерваторов в исторических процессах. Выше была отмечена как главная черта пассионария стремление внести перемены в сложившееся общественное устройство. Причем проводить преобразования надо в ближайшее время, чтобы самому участвовать в событиях. Главная черта консерваторов – установка на долгосрочное сохранение основы общества (будем называть ее каркасом). В истории бывают ситуации, когда для долгосрочного сохранения каркаса необходимо проведение достаточно радикальных преобразований. Если в этот период доминируют консерваторы и в их руках власть, их стремление обойтись без перемен, или хотя бы их отложить, нередко приводит к потере власти консервативной властвующей элитой и, возможно, переходу власти к пассионарной контрэлите.
Примерами могут служить периоды ожидания кризиса: в США – годы, предшествующие выборам президента 5 ноября 2024 г., и в СССР – годы, предшествующие его распаду в 1991 г. В США в период президентства Байдена властвующая часть элиты (глобалисты Демпартии, включая СМИ и соцсети) всемерно поддерживает и продвигает «культуру отмены, отказа» – отмены традиционных ценностей и нравственных норм: продвижение ЛГБТ, поддержка «глубинной церкви» сатанистов как орудия устранения христианства4 .Представители властвующей элиты отрицают прошлое, чтобы создать свой образ, чтобы убедить всех и самих себя, что они пассионарии. Но главная установка, и весь политический курс этого сообщества, и его реальная историческая задача – сохранение и продвижение формации глобального превосходства Запада, что подтверждает консервативность этого сообщества.
Трамп – представитель психологического типа пассионариев. Он и его сторонники видят неизбежность перелома мировой истории – уже начавшегося в других странах периода смены общественно-экономических формаций. Он уверен в необходимости для США найти место в новом многополярном мире, чтобы остаться одной из держав-лидеров. Чтобы «сделать Америку снова великой», нужна перемена политического курса и всех приоритетов: от приоритета международных проблем – к проблемам внутренним, от безоглядного развязывания войн и их пошаговой эскалации – к предпочтению мирных, хотя бы временных, разрешений конфликтов. Потеря власти консерваторами была исторически предрешена.
Аналогичная картина разворачивалась в СССР. Партийно-государственная властвующая элита после 1968 года боялась любых серьезных реформ, сохраняя и продолжая эпоху консерваторов. Попытку включить элементы рынка в механизм управления экономикой (косыгинскую реформу) пришлось отложить. В стране росли диссидентские и прозападные настроения. Запад достаточно успешно решал свои проблемы и готовился к экономическим и политическим ударам по Советам (период рей- ганомики). Необходимость обновления управляющей системы и идеологии в России была для всех очевидна. Новая попытка реформы «сверху» оказалась запоздалой. Социалистическая формация терпит поражение от экспансии западной формации глобального превосходства. Консервативный правящий слой в СССР теряет власть.
Использование категорий пассионариев и консерваторов позволяет надеяться на создание теоретических концепций, способных объяснять такие важнейшие процессы, как войны: их возникновение, эскалацию, окончание. В 2024 году вышла книга Кристофера Блаттмана «Зачем мир воюет» (Блаттман, 2024). В книге рассмотрено множество подходов к объяснению причин и процессов развертывания войн. В отношении начала серьезных военных конфликтов между большими государствами наиболее близок к тематике нашей статьи процесс, описанный в главе 3 части 1. В результате предшествующих исторических событий, властвующая социальная группировка (или партия), альтернативная официальному правительству, заряжена установкой на развязывание войны (назовем ее группировкой милитаристов). Радио и пресса – в распоряжении этой группировки. Часть общества (значительная, но далеко не большинство) «предрасположена» к войне. За счет пропаганды и стремления местных лидеров получить выгоду, повысить свой общественный статус через непродолжительное время группировка милитаристов получает большинство сторонников в обществе и становится официальной властью.
У Блаттмана остается без ответа вопрос, который имеет простое объяснение при использовании категорий пассионарии-консерваторы. Чем выделяется группировка милитаристов? За счет каких факторов получает значительные властные возможности именно такая группировка, это случайность или достаточно закономерное явление? Наш ответ следующий. Группировка милитаристов – это пассионарии, не нашедшие и не создавшие идеологической основы для применения своей чрезмерной энергии мирным путем. В таких ситуациях у пассионариев всегда есть «запасной вариант» – установка на войну. Описанное явление – высоко вероятное.
Обращение к учету и анализу социальнопсихологических факторов становится особенно важным сейчас, когда мир остается на грани радикальной опасности – опасности эскалации межцивилизационной конфронтации и начала мировой войны. Именно среди представителей пассионарного типа всегда находятся группы, готовые ради великой цели рисковать не только своей жизнью, но и человечеством. Они могут находиться в социальных слоях, обладающих властными возможностями.
Можно сделать вывод: роль пассионариев и консерваторов заслуживает того, чтобы учитывать ее как самостоятельную движущую силу истории, учитывать при формировании политического курса и при разработке теоретических концепций.
Участие людей рассматриваемых психологических типов в исторических процессах оказывает серьезное влияние на их судьбы. Пассионарные личности в периоды бурных общественных перемен, войн и революций выходят на первые роли в обществе. В спокойные времена консерваторы как представители большинства, опасаясь, что пассионарии сломают устоявшийся уклад жизни, отодвигают их на вторые роли. Конечно, реформы часто проводятся «сверху». Проведение таких реформ, несомненно, требует энергии и воли пассионариев. Часть пассионариев находят свое призвание и в рамках спокойно развивающегося, стационарного общественного устройства. Но многие пассионарии не находят подходящего поприща в государственных и общественных структурах и часто воспринимают это как личную трагедию. В такие времена многие из них используют избыток энергии для фиксации на определенной идее и становятся создателями новых идеологий и новых направлений в культуре.
Лермонтов – типичный представитель и гениальный выразитель судьбы пассионариев в эпоху консерваторов:
Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!
Лермонтов жаждет борьбы с бурей, но бури нет. И он воспринимает это как трагедию: «Уж не жду от жизни ничего я… Я б хотел навеки так заснуть».
Другой пример – Ницше. Он ждет людей, которые обладают психологическими качествами – «волей к возрастающей силе, волей к власти». «Что есть счастье?» – задает вопрос Ницше-Заратустра. Ответ: «Чувство, что преодолено новое препятствие». Ницше ждет прихода пассионариев. Ницшеанство – это призыв к ним выступить на сцену Истории: «Не мирись со сложившимся порядком, падающего, слабого, подтолкни!» И призыв был услышан. И Серебряный век русской культуры, и ненависть к капитализму, и антикапиталистическая революция – все это, кроме прочих причин, ответ на ницшеанский вызов5.
И появления таких пассионариев он ждал прежде всего в России: «Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в России – в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накоплялась. Там воля ждет угрожающим образом того, чтобы освободиться»; «Мы, немцы, нуждаемся в безусловном сближении с Россией… Англичане – утилитаристы, нельзя допустить установления английских трафаретов и американского будущего, а следует заключить союз с Россией»; «Должна существовать воля, пробуждающая инстинкт, антилиберальная до яркости, – воля к традиции, к авторитету, к ответственности за целые столетия, к солидарности прошлых и будущих поколений. Единственная страна, у которой в настоящее время есть будущность… – Россия»6.
Ницше видел в образе Раскольникова у Достоевского, по существу, психологический портрет пассионария, который, правда, не выдержал тяжести своего призвания.
Эпохи доминирования пассионариев или консерваторов и общественно-экономические формации
При анализе исторических процессов может быть полезно выделение периодов, когда доминируют пассионарии (эпохи пассионариев, эпохи перемен) и когда – консерваторы (эпохи консерваторов, эпохи стабильности). Как и общественно-экономические формации, эти эпохи могут быть разными в разных странах, а в какие-то периоды можно констатировать общемировое доминирование одного из двух психологических типов.
Эти эпохи обычно отличаются разными темпами экономического роста. Чрезвычайно высокие темпы экономического роста (рывки, «экономические чудеса») нередко происходят в рамках эпохи консерваторов, хотя, как правило, эпохи консерваторов характеризуются умеренными темпами. Эпохи пассионариев обычно характеризуются высокими показателями инфляции и активности финансовых рынков (рынков акций и облигаций), эпохи консерваторов – относительно низкой инфляцией и пассивностью финансовых рынков.
Важно подчеркнуть, что эпоха доминирования консерваторов – время стабильности экономико-политических и других общественных структур, но вовсе не стагнации или рецессии в экономике. Темпы могут быть именно умеренными, в некоторые периоды и очень высоким). При этом для преодоления экономической и политической волатильности, для реализации стремления консерваторов к стабильному и эффективному общественному развитию им часто необходимы усилия не меньшие, чем пассионариям для радикальных перемен. Примерами могут служить периоды послереволюционных диктатур, когда от участников властвующей группировки, стремящейся обеспечить стабильность и безопасность, требуется решительность и колоссальные усилия во всех сферах жизни.
Возможно, более целесообразно вернуться к основному определению пассионариев у Гумилева как людей, наделенных «излишней», сверхнормальной энергией, а для людей с психологической склонностью к переменам использовать другое название, например, новаторы. Чтобы сделать материал статьи более понятным и интересным для специалистов, в работе используется все же термин пассионарии, а не новаторы. Характер психики пассионариев (по Гумилеву) не вызывает сомнений, что это тот объект, который начиная с работ Карла Юнга называют психологическим типом. Характер и структура индивидуальной и коллективной психики новаторов и консерваторов менее устойчивы, нет надежных данных о генетической (наследственной) укорененности соответствующих склонностей. Возможно, более целесообразно для их определения применять не термин психологический тип, а психологическая установка (Юнг, 1997).
Использование психологического типа пассионариев давно вошло в арсенал общественных наук. Однако причины появления пассионариев и механизмы их влияния на исторические процессы изучены явно недостаточно. Важнейший вопрос: надо ли считать рост пассионарной напряженности первопричиной исторических процессов или, наоборот, пассионарная напряженность является следствием складывающейся исторической ситуации? Как уже отмечалось, Лев Гумилев рассматривал периоды влияния пассионариев только очень большой длительности – в масштабе фаз развития этноса, но согласно его теории, появление и рост пассионарности в обществе определяется природными факторами и не зависит от процессов исторических.
С такой концепцией не согласны многие специалисты, – например, (Балацкий, 2022; Екимова, 2024; Турчин, 2024). П. Турчин считает, что потенциал пассионарности всегда присутствует в элите. Пассионарное ядро элиты обычно сосредоточивается в контрэлите и выступает на сцену Истории в периоды конфликтов элит. В работе Е.В. Балацкого представлен поэтапный процесс возникновения в обществе пассионарной напряженности. «Взрыв пассионарности» является ответом, «гиперреакцией» на каскад внешних вызовов как «высвобождение скрытых резервов» пассионарности. Я согласен с таким представлением о причинах появления пассионарной напряженности и формулирую это так: она не появляется, а проявляется в определенных исторических условиях.
Другой вопрос относится к оценке – положительной или отрицательной – подъема пассионарной напряженности, а также новаторской и консервативной установок. Ответ на этот вопрос не может быть дан независимо от сложившейся исторической ситуации. В современной России у многих складывается впечатление, что важнейшей проблемой в эпоху стабильности и застоя всегда является обеспечение роста доли пассионариев в обществе с их избыточной энергией, создание условий для подъема пассионарной напряженности. Но надо вспомнить о том, что все «цветные рево- люции» (в том числе горбачевская перестройка с ельцинским переворотом 1990-х годов) были связаны именно с ростом в обществе влияния пассионариев, новаторов с установкой на необходимость радикальных перемен. В следующих разделах статьи чуть подробнее рассматривается ситуация в современной, путинской России, в которой значительную роль играет идеология консерваторов. Однако это самостоятельная сложная проблема, на которую я не готов дать однозначные ответы.
По моему мнению, использование категорий эпохи перемен и эпохи стабильности может дать структурирование истории, достаточно значимое и более адекватное ее современному течению, чем аппарат формаций. Проиллюстрируем это подробнее. Можно «привязать» эпохи пассионариев – к «бурным» периодам смены общественно-экономических формаций и серьезных военных конфликтов, а эпохи консерваторов – к спокойным периодам мирного развития без серьезных войн и перемен («переломов») в основах общественного устройства.
Привлекательна простота и компактность той картины мировой истории, которую предлагает модель формационно-цивилизационного синтеза (Волконский, 2025). Новое время характеризуется наличием двух в основном независимо развивающихся цивилизаций. Одна – это страны Западной Европы, тесно связанные и взаимодействующие друг с другом, где еще до возникновения системы капитализма сформировались культура и глубинная идеология индивидуалистического либерализма. Другая цивилизация – группа стран с доминированием ценности государства и его организационной структуры. Новая формация возникает и развивается сначала в рамках предыдущей, а «моментом» смены формаций надо считать некое знаковое событие при достижении ее доминирования в экономической, политической, институциональной областях, в результате которого происходит резкий сдвиг (перелом) в глубинной идеологии (Волконский, 2025) большинства населения или хотя бы элиты. Обычно в периоды, близкие к таким событиям, происходят социальные, политические, военные столкновения и иные бурные исторические процессы. Надо заметить, что порядки и общественные устройства предыдущей формации всегда сохраняются еще длительное вре- мя после «момента смены» формаций, так что использование слова «смена» имеет условный характер.
Периодом смены формаций «феодализм – капитализм» в Европе можно считать период от Великой Французской революции до окончания наполеоновских войн (1815 г.). С этим вполне согласуется представление об эпохе пассионариев. Конечно, распространение капиталистической формации в Европе, как и сохранение феодальных структур власти и собственности происходило на протяжении всего ХIХ века. Но наиболее важным процессом в это время было мощное экономическое, институциональное, культурное развитие в рамках капиталистической формации. Доминирующей идеологической (и дипломатической) установкой было предотвращение войн и отыскание мирных решений. Можно считать, что эпоха консерваторов продолжалась до начала революционных событий в России в 1905 году. Период смены формаций «капитализм – социализм» – с 1905 г. до конца Гражданской войны в России в 1922 г. Этот период включает Первую мировую войну, революцию 1917 года, российскую Гражданскую войну и другие бурные события, – типичную эпоху пассионариев.
Как определить смысловую сущность и датировку формации, появившейся в цивилизации либерализма в ответ на экспансию социализма? Эта формация наиболее отчетливо и содержательно проявилась с приходом нацистов к власти в Германии и во время Второй мировой войны (эпоха пассионариев). В период холодной войны формируется общая идеология формации (включающая идеологию неонацизма как экстремальный вариант) – идеология глобального превосходства Запада. Этот термин может быть принят в качестве названия формации. Данная идеология включает элементы, взятые как из идеологии либерализма (принцип тотального освобождения индивида), так и из идеологии государственности (теневой центр высшей власти, «глубинное государство»).
В период холодной войны 1946–1991 гг. вплоть до разрушения Советского Союза (период противоборства формации превосходства Запада и формации социализма) доминируют консерваторы. 1991 год можно назвать началом недолгого периода безраздельного доминирования формации превосходства Запада.
Концом этого периода можно считать объявление Россией в 2022 г. Специальной военной операции (СВО), когда общепризнанной новой движущей силой истории становится формирующаяся политико-идеологическая система отношений между странами. В работе (Волконский, 2025) эта формирующаяся система названа новой формацией – формацией многополярного мира (МПМ). Но целесообразно ли рассматривать эту политико-экономическую систему как новую формацию или считать, что категории общественно-экономических формаций не применимы для изучения новой исторической ситуации? Можно ли использовать категории «эпохи пассионариев и консерваторов»? Для ответа на эти вопросы нужны новые теоретические инструменты.
Война не обязательно время доминирования пассионариев, если общество и элита едины и устойчивы. Но это время выявления пассионариев. А послевоенный этап всегда связан со сменой значительной части элиты. Эта смена может происходить под контролем государства – кадровая реформа «сверху». Эти соображения позволяют показать серьезность предостережений об опасностях и указать пути их анализа.
Категории формаций больше не пригодны?
С усложнением общественной жизнедеятельности человечества формационно-цивилизационная модель и концепция формаций в применении к конкретным историческим процессам утрачивают свою простоту и четкость, поскольку ослабевает значение самих исторических факторов, определяющих формации. Укажем на следующие процессы. Очень эффективная для философии истории категория формаций определена еще в марксизме как совокупность производственных отношений, порождающая надстройку, в частности, политикоидеологические отношения между государствами и другими сообществами. Стремительный по историческим меркам прогресс производства и технологий привел к значительному перемещению основных факторов и проблем исторического развития, движущих сил истории из сферы материального производства – в сферу политико-идеологических отношений, и перемещению приоритетных проблем и факторов из области внутристрановых в область межстрановых отношений и геополитики.
В периоды доминирования определенных формаций каждая из них распространялась на всю группу стран, лидирующих в соответствующей цивилизации. И можно было (хотя и с оговорками) определять «моменты смены формаций» как точки, разделяющие течение общего исторического времени. Но уже в ХХ веке определять такие моменты стало проблематично: несколько формаций сосуществуют и взаимодействуют одновременно в течение вековых временных отрезков. А с возникновением многополярного мира на мировую арену вышли новые мощные суверенно развивающиеся страны с разными традициями и культурой, с разной историей, – страны разных цивилизаций. И говорить о последовательной смене формаций теперь возможно только применительно к каждой стране в отдельности.
Другой процесс, ведущий к утрате четкости и однозначности в определении конкретных формаций, – процесс сближения их институционального и идеологического содержания, а также их смешивания. Большая часть ХХ столетия прошла под знаком конфронтации (временами обостряющейся до горячих войн) между капитализмом и социализмом. Идеологии этих формаций были идеологическим выражением значительно различающихся, «разошедшихся» кодов цивилизаций Запада и Незапада. Однако параллельно шло идеологическое и институциональное сближение их общественных устройств (Волконский, 2025), особенно после разрушения Советского Союза. Как расхождение, так и сближение касались в основном вну-тристрановых проблем и факторов.
В развитых странах Европы и Америки признаки сближения формаций капитализма и социализма – это признание обязанности государства обеспечивать минимально необходимый уровень жизни для граждан, доступность услуг образования и здравоохранения, включение в официальную идеологию тезиса о социальном государстве и т. д. В бывших странах Социалистического Содружества – это широкое использование и включение в доминирующую идеологию рыночных механизмов, тезисов о правах человека и т. д. И в идеологии, и в других сферах общественного устройства сближение привело к сочетанию (далеко не всегда эффективному) элементов капитализма и социализма, западничества и патриотизма. Идеологии этих стран потеряли свою четкую оформленность.
Важные изменения произошли с понятиями классов и классовой структуры общества – их адекватности современной реальности и роли в исторических процессах. В западных странах господствующий класс, когда-то состоявший преимущественно из капиталистов, радикально пополнился слоем экономических менеджеров и научно-технологической элиты. В социалистических странах класс буржуазии практически перестал существовать, так что классовое деление общества сменилось на разделение общества на слой управленцев и научно-технологических работников (элиту) и массу остальных граждан, включающую рабочих, служащих и крестьян.
Концепции, не учитывающие таких изменений, могут содержать опасные ошибки. Примером может служить статья Б.К. Кучкина «Фашизация России»7, где он обвиняет Г.А. Зюганова и других теоретиков КПРФ в том, что они являются единомышленниками и идейными соратниками национал-социалистов. По моему мнению, ошибка Кучкина состоит в том, что он саму установку на «общность народа», на создание «единого социального сознания» считает отличительной чертой именно фашистской идеологии, элементом, отличающим ее от идеологии социализма. Это отличие было актуальным в устах Георгия Димитрова в его выступлении на VII конгрессе Коминтерна (1935 г.). Тогда речь шла о революционном социализме в странах Европы, где шла фашизация. Но и тогда это не относилось к социализму в СССР. Социалистическая основа идеологии КПРФ – это не революционный социализм. Действительно, и современный социализм, и фашизм используют идеологическую и институциональную структуры национализма и государственности. Но они радикально различаются по целям и ценностям. Цель фашизма (и неофашизма) и его идеи единства общества – утверждение и сохранение гегемонии Запада (он порождение формации глобального превосходства Запада). А цель современного социализма – обеспечение равенства, братства, справедливости и идеалов многополярного мира.
Рассмотренные исторические тенденции ведут к следующим изменениям. Внутристрано-вые факторы и проблемы, определяющие расхождения и противоборство формаций, отходят на второй план, их влияние ослабевает. Первые места в поле внимания заняли проблемы межстрановых отношений, прежде всего проблемы геополитические. Получается, что длительное устойчивое противоборство между большими группами стран определяется только рационально-волевыми факторами и решениями их властных элит? Это не соответствует гораздо более содержательному определению категории формации в теории.
Образ Будущего в разные исторические периоды
Важным социально-психологическим фактором является отношение общества к будущему. Выше уже отмечалось, что в начале ХХ века, как и теперь, Европа и Россия переживали преддверие кризиса. Но эти периоды радикально различаются по доминирующей социальнопсихологической и духовной атмосфере. Важной чертой этого различия является убеждение в возможности (а часто и в неизбежности) лучшего Будущего, которое последует за кризисом-переворотом. Это убеждение, или вера, базировались на успехах промышленной революции, на развитии научно-производственных корпораций – основе будущего Прогресса. Тогда все это мощно развивалось, захватывая все новые страны и общественные слои.
Но этот же мощный научно-технологический Прогресс частью человечества воспринимается как предвестник Будущего, вовсе не Светлого, а Катастрофического. Вот что пишет великий немецкий физик Макс Борн, переживший (в Великобритании!) разгром германского нацизма, в книге «Моя жизнь»: «Хотя я влюблен в науку, … нынешние политические и милитаристские ужасы, полный распад этики … – необходимое следствие роста науки».
Жить ради будущего, отодвигая на второй план ценности и возможности текущего момента, вкладывать все силы в достижение того Образа Будущего, который сложился в твоей системе смыслов, если надо, рисковать жизнью, – люди с таким состоянием души, с такой психологической установкой всегда составляли заметную часть европейских народов. Причем это не только пассионарии. Консерваторы нередко становятся героями ради сохранения устойчивого порядка, предотвращения его утраты в будущем. Пассионарии отличаются тем, что их Образ Будущего обязательно включает перемены. В религиях христианства и ислама Образом Будущего служит потусторонний мир. Правда, в них этот Образ относится только к будущему каждого верующего в отдельности, а не к состоянию общества как целого.
Однако в период конца ХIХ – начала ХХ века в России устремление в будущее. захватывает все общество. Это не только «новые люди» М. Горького – Нил, Шишкин («Мещане»), Павел Власов («Мать») – люди, которые верят, что господство «старой жизни» кончилось, которые готовы отстаивать свое право жить по-новому. Это и герои Чехова, которые способны только мечтать о будущем. Вот Ольга (одна из «Трех сестер»): «Страданья наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле».
В России вера в Светлое Будущее была в большой мере результатом формирования новой общественно-экономической формации, которое было ответом российской цивилизации на вызов чуждой ей капиталистической формации, идущий со стороны Запада (Волконский, 2025).
Надо сказать, что западная установка на Будущее часто была связана с войной и разрушением старой жизни, российская – почти всегда представляет Будущее светлым, счастливым, устойчивым (Волконский, 2017).
Россияне обычно неплохо представляют себе (если не из школьного курса, то из рассказов старшего поколения) жизнь в Советском Союзе в 1930–1960-е годы. Причиной высокого смыслового значения Будущего у населения СССР многие назовут то обстоятельство, что установка на построение будущего коммунистического общества была центральной частью государственной идеологии. Но тогда уверенность в постоянном улучшении жизни была не только частью коммунистического мировоззрения, а просто не обсуждаемой данностью. Не все знают, что в начале ХХ века смысловая установка на Будущее была свойственна и мироощущению западных стран. Вот цитата из «Футуристического манифеста» Ф.Т. Маринетти (1909 г.): «Мы стоим на обрыве столетий! Так чего же оглядываться назад? Мы вот-вот про- рубим окно прямо в таинственный мир невозможного».
Ожидание «взрывного» социально-экономического развития тогда было характерно и для большой доли населения США и капиталистических стран Европы. Этот аспект развития США и Европы 1930–1950-х годов прекрасно показан в статьях Максима Калашникова. Хочется специально отметить в его статье (Калашников, 2023) прекрасное описание выставки «Мир завтрашнего дня» в США в 1939 г., которая отражает общий тогда настрой, веру во «взрывной» научно-технологический и экономический рост.
Хотя послевоенные десятилетия для россиян вовсе не были периодом высокого благосостояния, большинство из тех поколений неизменно вспоминают о тех десятилетиях (и даже о предвоенных 1930-х годах, кого не коснулись репрессии) как о светлой эпохе, о чем пишет поэт Д. Самойлов в сборнике «Дни»: «Мы этих дней не позабыли, горим огнем тех дней, в которые мы жили грядущим днем».
Образы Будущего и Прошлого как инструмент структурирования исторических процессов
В настоящее время духовный вакуум не оставил и следа от того всеобщего устремления в Светлое Будущее, которое было описано выше. В то же время очевидно, что вера в тот или иной Образ Будущего, несомненно, играет важную роль в решении проблемы активизации общества. В настоящем разделе кратко опишем ту роль, которую играют Образы Будущего и Прошлого в различии кодов цивилизаций Запада и России.
Представление о Будущем как о постоянном улучшении условий жизни стало утверждаться в западных странах в связи с развитием капитализма. Адам Смит объясняет причины небывалого в истории процесса – постоянного роста экономики. Стоимость создает труд (имеется в виду предпринимательская активность), а не земля, как было в средневековых обществах. Земля и собранный с нее урожай ограничены. Но при капитализме стала развиваться промышленность. Ее развитие неограниченно за счет развития техники, обновления структуры продукции, локализации и т. д. Возникает идея бесконечного накопления богатства, неограниченного Прогресса, которая становится важнейшим постулатом идеологии капитализма.
С развитием капиталистической системы изменяется значимость экономической и политикоидеологической сфер жизнедеятельности. Экономические проблемы и показатели выходят на первый план, становятся целевыми, а политические оказываются второстепенными, становятся средствами для их достижения, решения проблем.
Вера в неизбежность Лучшего Будущего сама по себе является важной движущей силой, повышающей общественную активность. Когда накапливаются глубинные недостатки капиталистической системы и начинает развиваться идеология социалистической формации, одним из ее главных постулатов становится постулат о неограниченном экономико-технологическом Прогрессе. И Образ Светлого Будущего занимает в ней одно из первых мест.
Традиционные общества (в частности, общества феодальной формации) – общества, духовной основой которых служат религии и традиционное общественное устройство. Сохранение традиций, их сакрализация поддерживаются, в частности, доминированием сельскохозяйственного производства, его зависимостью от неизменно повторяющейся смены времен года, определяющей необходимость стабильности жизненного уклада. Поэтому традиционные общества настроены против нововведений времен Модерна, а идеологам и деятелям Нового времени приходится вести борьбу с традициями и их защитниками. А.Г. Дугин формулирует результат этих процессов в обобщенном виде: «Модерн есть отрицание Традиции» (Дугин, 2020, с. 151). Иными словами, это не просто вера в Будущее, это отрицание Прошлого.
Для западного человека времен Модерна существует только Будущее, цель его деятельности. Прошлое может быть только помехой на пути к цели. Пройденный путь, как только он пройден и стал прошлым, теряет свое значение и ценность. Для человека традиционного общества (Премодерна) будущее – только воображение, мечты, а прошлое – настоящая реальность, без которой человечество осталось бы только созданием воображения, пустотой. Вся значимость и ценность, вся реальность Человечества – в пройденном пути, в достигнутых высотах, в открытых, сконструированных, созданных сокровищах, в реализованных целях. И эти ценности, этот выстроенный мир вечны.
Постоянное обновление экономико-технологических условий жизни создает атмосферу приоритетной ценности инноваций во всех сферах бытия, будущее отождествляется с новым. Общие установки Модерна создают приоритетные условия для пассионариев. Между тем, серьезным недостатком ориентации на Будущее с отрицанием опоры на Прошлое является неизбежная неопределенность Будущего. Это усиливает позицию консерваторов, защитников стабильности общественного устройства и традиционных ценностей. Образ Будущего раздваивается на Будущее для пассионариев и Будущее для консерваторов. Это создает потенциал раскола общества.
В последние десятилетия социально-психологический феномен отношения к Будущему и Прошлому оказывается одной из ключевых характеристик современного периода развития «коллективного Запада» и его цивилизационного отличия от большинства стран остального мира. «Глубинное государство» США и экстремальная часть их элиты, опираясь на ряд меньшинств, надеясь на активизацию общества за счет их энергии. Создана целая «культура отмены, отказа», отмены всех традиционных ценностей и нравственных норм, связанных с прошлым, как устаревших (например, идеология ЛГБТ и вся трансгендерная вакханалия). Как сказала недавний вицепрезидент США Камала Харис: «Будущее не отягощено прошлым».
В США результатом такой идеологии и политики стал не экономический рывок, на который надеялись идеологи, а политико-идеологический раскол элиты и всего общества. В настоящее время образы близкого будущего у двух частей элиты различаются. Сторонники Дональда Трампа надеются на заявленную им установку на переключение внимания на внутренние проблемы, которых у США накопилось множество. За счет решения этих проблем предполагается преодолеть медленный, но неуклонный процесс потери страной своей мировой гегемонии. Другая часть властвующей элиты – глобалисты – категорически отвергает изменение политического курса, требующего поддержания любыми средствами (включая силовые и террористические), а точнее возвращения, достигнутого победой в холодной войне геополитического контроля над миром.
В странах Востока в условиях многополярного мира общественные устройства многообразны. Они не подчинены гомогенизирующему воздействию Центра. Страны-лидеры Россия и Китай прошли через эпоху стремления к переменам с переносом смыслов в Будущее и расколом общества в период смены капитализма на социализм. Современная конфронтация с западным глобализмом требует создания идеологии, устойчиво противостоящей его экспансии. Ответом становится повышение значимости традиции, истории. Иными словами, оружием стран Востока становится… Прошлое.
Российская цивилизация, создав великое многоэтническое государство, продемонстрировала редкий пример мирного сосуществования и сотрудничества этносов с разными культурами, исповедующими различные религии, верования и культы. Редким и ценным достижением российской цивилизации надо считать то, что, восприняв и творчески развивая возможности, открытые западным Модерном, она сохранила в первородной целости и ценности лучшие системы и качества духовности прошлых времен (например, неискаженный протестантизмом феномен христианства). Западная цивилизация культивирует те качества психики, которые дают силу, способность преодолевать сопротивление, российская – те качества, которые дают установку и способность понимать народ другой культуры, достигать согласия и сотрудничества без насилия, необходимость согласовывать, сопрягать новые смыслы со старыми. Одной из причин разрушения социалистического государства СССР была противоречащая коду российской цивилизации установка на «отмену Прошлого».
Период путинской России характеризуется восстановлением этой способности России, глубинным и официальным процессом постепенной интеграции Прошлого, его лучших моментов, с установкой на Будущее. В идеологию включается ценность истории, все более важное место занимают правоконсервативные ценности. Это не «возвращение Прошлого», а его привлечение и сращивание с Настоящим и Будущим. Это процесс создания единого пространства «Прошлое – Настоящее – Будущее», или «Вечное Развитие».
Будем надеяться, что этот процесс даст исторически эффективное решение проблемы «пассионарии в эпоху консерваторов».
Проблема экономического рывка в современной России
Знание о влиянии психологических типов на общество было бы сейчас очень ценным для России. Общественное устройство современной путинской России, наверное, лучше всего определено в книге (Сергейцев и др., 2020) как «народное государство». Его главные определяющие черты:
– доверие народа к государству и государства к народу;
– массовое участие народа в работе государства, отказ от любой сословной структуры.
Важнейшей чертой политического курса Путина является установка на устойчивость, минимизация рисков раскола, распада единства общества и государства, на всестороннюю поддержку наиболее миролюбивого и направленного к политической устойчивости исторического процесса современности – к многополярному миру. Это типичная эпоха консерваторов. Антипутинская оппозиция состоит не только из сторонников западного либерализма, но и включает патриотов, установка которых – необходимость перехода к высоким темпам экономического роста. Часть из них – это те, кто считает нынешний строй России капитализмом, от которого происходят основные беды и угрозы, в том числе опасность ее фашизации. Выразителем этой идеологии часто выступает «Пятая газета»8 (о роли капитализма). Выше уже отмечались статьи Б.К. Кучкина. Их основная идеология – революционный социализм. А вот статья9, «разоблачающая» Казанскую декларацию ХVI саммита БРИКС как «подпроект» для проектов глобализации и «устойчивого развития», продвигаемых западными кураторами. Это примеры «пассионариев в эпоху консерваторов».
Можно привести примеры «пассионариев в эпоху консерваторов», которые не только нашли свое место, но и оказывают глубокое положительное воздействие на развитие страны.
Речь пойдет о периодах чрезвычайно высоких темпов роста, экономических рывках («экономических чудесах»). Такие рывки происходят обычно тогда, когда нет внешних или внутренних угроз разрушения единства общества и стабильности государства, т. е. в эпохи доминирования консерваторов. Но П. Турчин (Турчин, 2024) и Е. Балацкий (Балацкий, 2023) показывают, что сам экономический рост высокими темпами обычно нарушает сбалансированность во многих секторах жизнедеятельности и может таить опасность распада единства элиты. Маловероятно, что инициаторами экономических рывков становятся осторожные консерваторы. Скорее всего, это пассионарии, которые сумели убедить консерваторов, преодолеть их сопротивление и нашли свое призвание в великом деле экономико-технологического преображения страны.
В настоящее время значительная часть патриотической элиты уверена в возможности и необходимости сейчас и в близком будущем для российской экономики высоких темпов, экономического рывка10. С.Ю. Глазьевым разработана концепция опережающего развития, позволяющая повышать темпы роста в смешанной рыночно-государственной экономике (Глазьев, 2021). Ее ключевая идея состоит в следующем. Государство с помощью механизмов планирования или целевого, проектного финансирования и кредитования обеспечивает развитие (и рост) сектора воспроизводства производительных сил более интенсивное, с опережающими темпами роста, по сравнению с «рыночными» темпами потребительского спроса. Приоритет получает развитие производственно-технологических комплексов нового технологического уклада. Опережающий рост численности работников этого сектора и их доходов ведет к повышению темпов роста общего потребительского спроса и за ним пищевой и легкой отраслей промышленности, коммунального и транспортного хозяйства. Именно так, с опережением возможностей воспроизводства по сравнению с ростом спроса, развивалось советское хозяйство, демонстрируя первое в мире экономическое чудо.
Подобные идеи пассионарной элиты и их разработка, несомненно, важный компонент успешности политического курса, интегрирующего задачи устойчивости и хорошего экономического роста. Сейчас у России любых ресурсов для экономического рывка достаточно. Наверное, главным вопросом является дефицит пассионариев. Возможно, постепенная интенсификация экономико-технологического развития повлечет за собой и появление все большего числа пассионариев.
Пока проблема влияния консерваторов и пассионариев, связи их динамики с процессами политическими, экономическими, идеологическими остается не изученной. И для теории, и для формирования государственной политики остается важным вопрос, чем определяется смена эпох «консерваторы – пассионарии» и «пассионарии – консерваторы». Продолжается эпоха консерваторов. Является ли переход к доминированию пассионариев результатом накопления экономических, политических, научно-технологических факторов и противоречий, приводящего к каскаду бурных перемен в общественном устройстве, который открывает поле деятельности для пассионариев? Или важнейшая причина – увеличение численности, накопление энергии, идей переустройства общества у самого социального слоя пассионариев?
Современный перелом исторической траектории
В странах Запада такой перелом ожидается многими политологами и журналистами как глубокий кризис (иногда даже как катастрофа), связанный в США с президентством Трампа, в Европе – с возможным приходом к власти «правых». Если на Западе перелом только ожидается, то в России характер правления Путина, особенно после начала СВО, с несомненностью доказывает, что перелом произошел. Россия демонстрирует конец западной гегемонии, она стала одним из лидирующих полюсов многополярного мира. Аналогичное преобразование произошло в Китае еще раньше: в период Ден Сяопина, и еще убедительнее – в период Си Цзиньпина. В этом разделе попробуем обойтись без категорий формации, используя психологические типы и образы Будущего и Прошлого.
В государственно-политических, социальноэкономических, институциональных структурах стран Запада радикальных преобразований пока происходит мало, так что можно считать, что там до сих пор продолжается эпоха консерваторов. Однако в США эпохой пассионариев может стать период, наступивший после выборов президента 5 ноября 2024 г. и победы на них Д. Трампа. Яркую характеристику ситуации в мире, ожидаемую после этих выборов, дает в своем интервью (названном «Перед бурей») за несколько недель до 5 ноября промышленный эксперт Саймон Хант11. Он показывает, как готовятся к возможной большой войне Иран, Китай, крупные корпорации США, не желая ее и опасаясь рискованных шагов.
В США уже 30 лет проводилась политика сохранения идеологии и всей формации превосходства Запада (это является необходимым условием единства элиты, единства народа). Это установка на раздробление России, контроль над экономикой Китая, использование Израиля в качестве плацдарма на Ближнем Востоке и т. д. Но в последние десятилетия эта политика велак очевидной, постепенной, но неуклонной, потере этого превосходства, иными словами, к проигрышу в противостоянии цивилизации Запада (с установкой на однополярный мир) – Востоку (с установкой на МПМ).
Приход в Белый Дом Д. Трампа – это разрушение всей идеологической конструкции, которая выстраивалась на протяжении десятилетий демократами и неоконами совместно с «глубинным государством» (deep state). Но что еще важнее: масса участников созданной структуры наверняка потеряют свои места. Многие наблюдатели предрекают, если не гражданскую войну, то «серьезные гражданские беспорядки». Надо ожидать начала эпохи пассионариев. Конечно, пока неизвестно, насколько высказывания Трампа удастся ему реализовать на деле. Но вот какие цели вырисовываются, исходя из его высказываний и намечаемых назначений12. Например, Трамп обещает уста- новить универсальные пошлины в размере 10– 20% на весь импорт и до 60% на все китайские товары. Другим направлением трамповских преобразований должна стать защита страны от нелегальной иммиграции. Это строительство стены вдоль южной границы США и выдворение нелегальных мигрантов (если понадобится, даже с привлечением армии). Также он собирается просить Конгресс США отменить «экологические» ограничения на развитие энергетики. От внешней политики США, от их участия во всех внешних конфликтах Трамп будет требовать резкого сокращения расходов. В целом намерения Трампа направлены на переориентацию всего политического курса с задач обеспечения мировой гегемонии США на задачи вну-тристрановые. Ради этого он готов к конфронтации с всесильным «глубинным государством» и его «зачистке».
В информационно-идеологическом пространстве Западной Европы в 2024 году оживилась и стала широко использоваться пара категорий «левые» и «правые». Различие представлений о будущем играет определяющую роль в политических движениях левых и правых и в понимании этих категорий. Обычно правыми принято было считать политические движения, опирающиеся на ценность национальных культур, защищающие сложившуюся привычную сословную структуру общества, левыми – идеи и движения, ставящие целью сокращение экономического неравенства, ограничение власти олигархии, в целом – борьбу за ценности социалистического характера. Экстремальными вариантами правых и левых движений являются нацизм и коммунизм.
Начиная с Великой французской революции понятия «левое» и «правое» использовались в борьбе между формирующимся капиталистическим общественным устройством и феодально-монархическими режимами. За «левыми» закрепилось представление как о сторонниках перемен и возвышения ценности будущего, за «правыми» – установка на сохранение сложившегося порядка и ценностей прошлого. Важнейшим символом левых стал индивидуалистический либерализм – главное идеологическое оружие в процессе построения капиталистического строя. В ХIХ–ХХ веках доминирующим противоречием исторического процесса была классовая борьба. Левыми называли борцов за ин- тересы низших классов, за их освобождение от господства буржуазии. К началу ХХ века оформилась идеология социализма, а левые стали ее главным носителем, при этом правыми считались адепты национальной культуры, сложившейся классовой структуры и государства.
Вместе с тем капиталистическая система успешно развивалась на основе технологического прогресса. Шла к «революции управляющих», и ей не нужны были символы Прошлого. Как в социалистических, так и в капиталистических странах, доминировало ожидание Лучшего Будущего. Противопоставление, связанное с временем, Прошлое – Будущее, отошло на вторые роли. Категории левое и правое употреблялись редко. В сознании, в культуре большинства стран левое политическое направление сохранилось ассоциированным с борьбой за интересы низших классов против господства буржуазной олигархии и за расширение прав и свобод личности.
В середине 2024 г. на выборах в Европарламент, а затем в парламенты Франции, Саксонии и Тюрингии в Германии, Австрии неожиданно успешно выступили антиглобалистские партии, такие как «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Альтернатива для Германии», австрийская «Партия свободы», выступающие за национальный суверенитет. Глобалисты стали использовать категории «левое – правое» в качестве оружия борьбы с этой опасностью. Глобалисты, «боевой отряд» финансовой олигархии, присвоили себе наименование «левых», оставив в этой категории только либеральноосвободительные смыслы и, как правило, не упоминая об установке на борьбу низших классов против буржуазии. Успешные партии националистов они называют «ультраправыми», чтобы связать с угрозой возрождения фашизма. Хотя поддержка глобалистами украинских и прочих неонацистов именно их сближает с фашистской идеологией. В западных СМИ обвинение в правом консерватизме стало чуть ли не ругательством. Так «обзывают», например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сотрудничество с европейскими или американскими правыми в элитарных кругах считается «неприличным»13.
Понятия «левое» и «правое» в политике потеряли устойчивость своих смыслов, явно не пригодны для теоретического анализа. Более надежными оказываются близкие к ним понятия пассионариев и консерваторов. Это понимает и учитывает Сара Вагенкнехт, чья партия («Союз Сары Вагенкнехт») проводит левую политику в общепринятом смысле этого понятия и выступает против экспансии американского гегемонизма. Она предлагает немцам «левый консерватизм» – гибрид экономики со справедливым перераспределением доходов и традиционной социальной политики (подробно описано в статье британского политолога Фрейзера Майерса в издании Spiked, русский перевод)14.
Конечно, возрождение категорий «левое – правое» не является главным признаком, симптомом исторического перелома в Западной Европе. Таким симптомом его назревания можно считать само вступление на историческую сцену новых политико-идеологических сил. Но важнее то состояние духовно-идеологического вакуума, о котором говорилось в начале статьи. Его можно проиллюстрировать с помощью социально-психологических категорий. Как было отмечено, сейчас в странах «коллективного Запада» вся духовно-идеологическая конструкция опирается на Образ Будущего и «культуру отмены Прошлого». Поэтому отсутствие новых «инклюзивных» идей оказывается для них таким болезненным и открывающим поле действий для пассионариев. Для российского общества отсутствие новых идей вовсе не так болезненно, поскольку в российской цивилизации важную роль играет ценностный смысл Вечного Развития.
Категории «эпоха пассионариев» и «эпоха консерваторов», «Образы Будущего и Прошлого», наверное, не смогут заменить аппарат общественно-экономических формаций, но они могут служить хорошей дополнительной теоретической конструкцией, проясняющей важные и актуальные проблемы.
Заключение
В работе показано снижение в последнее время адекватности марксистского инструментария общественно-экономических формаций. Результатами работы можно считать демонстра- цию на материале исторических процессов необходимости регулярного учета при научных исследованиях и при формировании государственной политики факторов социальной психологии, а именно психологических типов пассионариев и консерваторов, а также феномена отношения общества к будущему и прошлому. Применение категории психологических типов позволяет дать содержательное разделение исторического времени на эпохи доминирования пассионариев и доминирования консерваторов. Использования феномена образа Будущего характеризует переход от традиционных обществ к обществам Модерна.
Указанные психологические факторы характеризуют разделение на их основе общества, в первую очередь элиты, и оказывают серьезное воздействие на взаимоотношения разделенных частей. Это оказывает серьезное влияние на другие общественные процессы. Иными словами, надо рассматривать роль этих психологических факторов как самостоятель- ную движущую силу истории. Предлагается использовать разделение исторического времени на эпохи доминирования пассионариев и эпохи доминирования консерваторов. Это дает возможность оценить ошибки правящих элит и государственной власти, связанные с неспособностью определить моменты смены этих эпох и принять меры по их учету. Приведены исторические примеры.
В статье рассмотрена важная для современной России задача конструктивного использования энергии пассионариев в эпоху консерваторов для активизации экономико-технологического развития, а также использования образа Прошлого при формировании идеологии консерваторов в период всеобщей ориентации на Будущее.
Хочется закончить статью подтверждением известного, но часто забываемого тезиса: развитие истории, экономики и других общественных наук напрямую связано с продвижениями в научной психологии.