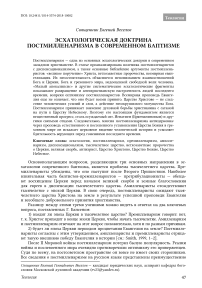Эсхатологическая доктрина постмилленаризма в современном баптизме
Автор: Веселов Евгений Геннадьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Постмилленаризм - одна из основных эсхатологических доктрин в современном западном христианстве. В статье проанализирована полемика постмилленаристов с диспенсационализмом, а также основные библейские аргументы постмилленаристов: «великое поручение» Христа, ветхозаветные пророчества, всемирная евангелизация. Их несостоятельность объясняется непониманием взаимоотношений Бога и Церкви, Бога и греховного мира, недооценкой свободной воли человека. «Малый апокалипсис» и другие систематические эсхатологические фрагменты показывают развращение и антихристианскую настроенность людей последнего времени, вопреки оптимизму постмилленаристов. Всемирная проповедь Евангелия еще не означает, что оно будет всеми принято. Царство Христово - не следствие человеческих усилий и слов, а действие несокрушимого могущества Бога. Постмилленаризм принижает значение духовной борьбы христианина с сатаной на пути к Царству Небесному. Поэтому его настоящим фундаментом является вещественный прогресс, столь осуждаемый свт. Игнатием (Брянчаниновым) и дру- гими святыми отцами. Следовательно, миссия постмилленаризма антицерковна: через проповедь естественного и постепенного установления Царства Божия в греховном мире он искажает церковное видение человеческой истории и усыпляет бдительность верующих перед гонениями последнего времени
Эсхатология, постмилленаризм, премилленаризм, амилленаризм, диспенсационализм, тысячелетнее царство, ветхозаветные пророчества о церкви, великая скорбь, антихрист, царство христово, царство божие, царство небесное
Короткий адрес: https://sciup.org/140246612
IDR: 140246612 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10082
Текст научной статьи Эсхатологическая доктрина постмилленаризма в современном баптизме
Основополагающим вопросом, разделяющим три основных направления в эсхатологии современного баптизма, является проблема тысячелетнего царства. Пре-милленаристы убеждены, что оно наступит после Второго Пришествия. Наиболее влиятельная часть баптистов-премилленаристов — претрибулационисты — обещают восхищение Церкви перед началом великой скорби и земные благословения для евреев в диспенсации тысячелетнего царства. Амилленаристы отождествляют тысячелетие с эпохой Церкви. В свою очередь, постмилленаристы ожидают тысячелетнего царства Христова на земле в результате успешной проповеди Евангелия и всеобщего добровольного принятия христианства.
Разницу между этими тремя учениями можно видеть в ответах на два ключевых вопроса, поставленных Г. Бансеном:
-
1) входит ли эпоха Церкви в тысячелетнее царство? Премилленаризм говорит: нет, т. к. Христос приходит в конце эпохи Церкви, чтобы начать тысячелетие. Амилленаризм и постмилленаризм отвечают на этот вопрос положительно, хотя и по разным причинам.
-
2) будет ли эпоха Церкви периодом процветания Евангелия на земле? Постмилле-наристы согласны с этим утверждением, амилленаристы и премилленаристы отрицают такую внешнюю победу Евангелия в истории [см.: Smith, 1999, 1–2].
После II Мировой войны постмилленаризм потерял былую популярность. Реалии войны и послевоенного мира очевидно противоречили оптимизму его приверженцев. Судя по всему, на постсоветском пространстве он вовсе не имеет своих сторонников. Все сведения о постмилленаризме на русском языке представлены преимущественно
в переводных пособиях по догматическому богословию; по необходимости они излагаются кратко и с элементами критики. Однако на Западе постмилленаризм все еще имеет немало последователей: издаются книги и статьи, ведется полноценная богословская полемика с амилленаристами и премилленаристами.
Как и в период своего расцвета в XVIII–XIX вв., нынешний постмилленаризм существует в двух формах — библейской и эволюционной. Библейский постмил-ленаризм представлен, к примеру, в определении Л. Бойттнера: «Постмиллена-ризм — это учение, согласно которому Царство Божие постепенно устанавливается в мире через проповедь Евангелия и действие Святого Духа в сердцах. В конце концов, согласно этому учению, наступит эпоха всеобщего мира и справедливости (тысячелетнее Царство), которая завершится вторым пришествием Христа, всеобщим воскресением мертвых, всеобщим судом и явлением небес и ада» [Райри, 1997, 526]. В отличие от тысячелетия хилиастов, здесь не говорится об обновленной земле и прославленных телах верующих. По большому счету, мы видим успешную социально-политическую реализацию евангельской проповеди. Первоначальный пие-тистский постмилленаризм считал грядущее тысячелетие самоочевидным. Однако в последнее время набирает популярность заветный постмилленаризм, который опирается на сформулированную еще в начале Реформации теологию завета [см., напр.: ТЭС, 2003, 1173–1175].
Для другой группы постмилленаристов Царство Божие видится естественным результатом эволюции: человек сам создаст новую эру через образование, разумное законодательство и социальные реформы. Вместе с тем Господь и Его апостолы представляют нам грядущее Царство не как результат естественных усилий человека, а как сверхъестественный подарок Бога людям (вопреки, например, Еф 2:8–9). Такого рода взгляды, приведшие к социальным утопиям наподобие коммунизма, не могут стать предметом серьезной библейской оценки.
В отличие от премилленаристов, постмилленаристы не акцентируют особого внимания на начале двадцатой главы книги Откровения, как будто открывающей будущее Церкви. Напротив, они предпочитают рассматривать это пророчество в свете всего Писания как аллегорически описывающее духовные изменения в Церкви перед Вторым Пришествием [Gentry, 1992, 69–70]. Так, К. Джентри оставляет за началом 20-й главы Откровения функцию выявления основной сюжетной линии книги и увязывает этот текст с ответом Бога на вопль мучеников первого столетия [Gentry, 2013, 90]. Иными словами, земное страдание мучеников должно получить земную же награду для последующих поколений христиан.
По мнению постмилленаристов, тысячелетнее царство, описанное в Откр 20:1–6, уже сейчас реализуется в жизни Церкви. Представление о нем можно получить из притч Господа в Мф 13, особенно из притч о закваске и горчичном зерне, в которых мы видим неуклонный рост царства. Эти притчи показывают большое количество ложных христиан, но плодоношение истинных христиан больше, почему они и должны победить в истории. Вместе с тем притча о пшенице и плевелах демонстрирует отсутствие большого разрыва (восхищения Церкви и невидимого пришествия Христа) до самого конца, вопреки учению диспенсационалистов [Smith, 1999, 5–6]. Социокультурный рост этого царства будет неуклонным и постепенным, как экстенсивным (по всему миру), так и интенсивным (оно будет превращаться в доминирующий фактор). Христос будет отсутствовать физически, но при этом царствовать на земле [Эриксон, 1999, 1021]. Предпосылкой и основой создания этого царства является искупительная работа Господа Иисуса Христа.
Некоторые постмилленаристы утверждают, что это царство продлится ровно тысячу лет, тогда как другие считают, что тысячелетие выступает символом полноты и большой продолжительности.
В конце этого царства придет антихрист и наступит великая скорбь, которую, тем не менее, последние верные смогут пережить. Затем ожидается Второе Пришествие, воскресение мертвых, Страшный Суд, новая земля и новое небо.
К. Джентри называет следующие основные признаки постмилленаризма:
-
1) мессианское Царство основано на земле Христом во время Его земного служения через Его искупительный подвиг. Церковь — преображенный Израиль;
-
2) существенная природа этого Царства — искупительная и духовная, а не политическая и материальная;
-
3) это Царство осуществляет преобразующее социокультурное влияние в истории, так что все больше людей его примет через проповедь. Лично Христос не будет присутствовать на земле во время тысячелетия. Тем самым будет исполнено великое поручение Христа и наступит длительная эпоха духовного процветания [см.: Gentry, 1992, 70–73]1.
Постмилленаристы используют несколько основных аргументов. Так, они акцентируют внимание на великом поручении Христа «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28:19–20). В молитве Господней мы просим: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф 6:10), и эти прошения Господь, конечно, не оставит без ответа. Напротив, Он обещал, что проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам (Мф 24:14). Во всех этих местах постмилленаристы видят нечто большее, чем просто желание Бога и наше, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим 2:4). Вместо этой любви к погибающим они привносят в толкование то, чего нет в тексте, — пророчество о будущем всемирном социально-политическом царстве Бога.
О распространении Евангелия говорит и Рим 11. В отличие от диспенсационали-стов, которые видят здесь будущее еврейское тысячелетнее царство, постмилленари-сты справедливо подчеркивают, что согласно этой главе Израиль в целом отвергает Христа, зато остаток иудеев и множество язычников обращаются к вере во Христа. В свое время благословения Божии для христиан из язычников пробуждают ревность и веру во Христа и в евреях. Наконец, обращение Израиля приводит к спасению мира [Smith, 1999, 4–5]. Однако спасение мира понимается как всеобщая вера во Христа, а не так, как писал ап. Павел чуть выше в том же Послании — как спасение лишь тех, кого Бог предузнал и предызбрал (Рим. 8:29–30). Именно это означают слова о спасении полного числа язычников в Рим 11:25 [Блж. Феофилакт Болгарский, 2006, 306; на Рим 11:25]. Иначе слова чтобы всех помиловать (Рим 11:32) можно понимать как свидетельство об апокатастасисе — помиловании не только людей последнего времени, но и вообще всех людей. Больше того, почему в число этих всех не входят те, кто отвергнут Христа во время гонений антихриста? Почему в Рим 11 не говорится и о всеобщем обращении язычников во времена всеобщего покаяния Израиля? Итак, подобное толкование внутренне противоречиво.
Большое внимание они придают пророчествам Ветхого Завета о царстве Мессии, подчеркивая земной и очевидный характер обетований. Так, например, в Пс 46, 71, 99; Ис 45:22–25 и Ос 2:23 ясно говорится, что все народы придут к познанию Бога. Многократно обещано царствование Христа на земле (Пс 2:8; 21:27; 46; 71; 84:9; Ис 2:2–4; 11:6–9; Иер 31:34; Дан 2:35, 44; Мих 4:1–4), но такого внешнего господства над всеми людьми мы еще не видим. Поэтому, делают вывод постмилленаристы, эти обетования и пророчества будут буквально реализованы в грядущем тысячелетнем царстве. При установлении этого царства Христос изберет Своим орудием Церковь [Райри, 1997, 527–528]. Начальной точной роста царства является Вознесение Христово, согласно Дан 7:13; как и было предсказано в Дан 2:44, это случилось во времена Римской империи. Вопреки диспенсационализму, в пророчествах книги Даниила нет никакого разрыва [Smith, 1999, 7].
Вообще сочинения постмилленаристов, как и прочих неопротестантов, наполнены полемикой с представителями других эсхатологических взглядов. Особый интерес представляет аргументация против диспенсационалистов. Так, при анализе их сочинений выявляется широкое и неоправданное применение аллегорического метода, который, согласно претрибулационистам, якобы недопустим при толковании пророчеств. Например, разные авторитетные диспенсационалисты допускали такие толкования: сравнивали коммунизм, социализм и фашизм с тремя нечистыми духами и жабами из Откр 16:13; относили армию всадников из Откр 9:16–19 к современной войне; строго «буквально» доказывали год восхищения Церкви в 1925 или 1988 г. (а когда последнее не произошло, автор перенес дату на 1989 г.) [Smith, 1999, 12]. Таким образом, реальное богословие диспенсационалистов отличается от заявленных принципов.
О богословской неустойчивости диспенсационализма свидетельствует и готовность богословов к изменению своих взглядов под влиянием момента. Так, ради минуты славы один из авторитетнейших диспенсационалистов и многолетний президент Далласской семинарии Дж. Валвурд в начале 1990-х гг. отказался от традиционного представления о том, что восхищение Церкви состоится без всяких видимых предпосылок, в пользу «тикающих часов пророчества». Иными словами, он согласился с правомерностью небиблейского поиска признаков грядущего восхищения через анализ текущих политических событий [North, 1993, 20–21]. Традиционный диспенсационализм отвергал «тикающие часы пророчества» в связи с тем, что они подрывают один из фундаментальных его принципов — теорию разрыва между 69-й и 70-й седьминами Даниила. Разрыв между Распятием и восхищением Церкви не имеет видимых свидетельств ни у пророка (Дан 9), ни в целом в Писании. Поэтому, естественно, он не должен иметь видимых признаков и в общественной жизни. По большому счету, для отрицания такого поп-диспенсационализма достаточно вспомнить аргументы того же Дж. Валвурда из его книги «Вопросы восхищения» (1979). Разрушая классический претрибулационизм, «тикающие часы» приводят своих сторонников в лагерь мидтрибулационистов или посттрибулационистов2. Вслед за Ч. Скоуфилдом и многие другие диспенсационалисты отказываются признавать буквальное шестидневное творение мира [North, 1993, 163–171]3. В связи со скорым восхищением Церкви многие диспенсационалисты отказываются принимать участие в решении социальных и иных проблем нашего времени [Gentry, 1992, 18–19].
В то же время некоторые возражения против диспенсационализма являются отражением собственных богословских заблуждений толкователей. Так, постмилле-наристы настаивают на земных благословениях христианам в тысячелетнем царстве, потому что Церковь является наследником Ветхого Израиля. Ч. Скоуфилд и другие ранние диспенсационалисты четко разграничивали Царство Божие и Царство Небесное, но их последователи все-таки согласились, что это синонимы. Поэтому нет препятствий считать земные евангельские обетования относящимися не к Израилю, а к Церкви.
Главным пунктом соприкосновения с диспенсационализмом и, соответственно, дискуссии с амилленаристами является вопрос о буквальном исполнении данных праотцам земных обетований. Постмилленаристы настаивают, что они еще ждут своего исполнения, но не в Ветхом, а в преображенном Израиле, т. е. в Церкви. Таким образом, методологической основой критики амилленаризма выступает заветная эсхатология. Одним из наиболее важных вопросов полемики является проблема страданий Церкви. Для амилленаристов страдания Христа и следующие за ними страдания всей Церкви являются одним из фундаментов веры, и в недооценке этого страдания они настойчиво упрекают постмилленаристов [см.: White, 2000, 161–176]. В свою очередь, постмилленаристы отвергают универсальное значение страданий для Церкви и христианина, называя их случайным, исторически преходящим эпизодом, наподобие дара языков в Древней Церкви. Страдания Церкви постмилленаристы понимают наподобие гонений христиан при языческих императорах [Gentry, 2001, 424–425]. Как видно, амилленаристы настаивают на необходимости текущих страданий для всей Церкви4; постмилленаристы справедливо их упрекают, что церковные структуры сейчас не испытывают гонений. В этом споре, как видно, нет правых: обе стороны лишены православного понимания Церкви как таинственного Тела Христова и поэтому не понимают, что каждый верующий сам в себе переживает духовную брань, потому что его спасению сопротивляется сатана и его земные сторонники. Тем самым в верном и с верным страдает и Церковь, и Сам Христос.
Какие библейские затруднения возникают у постмилленаристов? Пожалуй, на первом месте следует назвать систематические фрагменты, относящиеся ко Второму Пришествию и предшествующим событиям, особенно «малый апокалипсис» (Мф 24 и пар.). Как и премилленаристы, обычно они делают удобную для себя «нарезку» из разных фрагментов Писания, располагая их в произвольном порядке. Однако этого нельзя сделать в отношении цельных фрагментов текста, в которых будущее описано без предварительного тысячелетнего царства славы.
В итоге нередко они вынуждены производить насилие над текстом. Например, К. Джентри интерпретирует «малый апокалипсис» (Мф 24) следующим образом. Все беды конца времен (всемирные войны, глады, моры, землетрясения, мучения и убийства христиан и проч. — ст. 6–10) сводятся к событиям перед 70 г. Великой скорбью конца времен для него является разрушение Иерусалима, которое увидит это поколение (ст. 34). Лжепророками (ст. 11) выступают Симон волхв и другие безымянные обманщики, хотя, впрочем, никто из них не выдавал себя за Христа. Перед разрушением Иерусалима, как известно, не было всемирных войн (ст. 6–7), что не мешает К. Джентри вспоминать о военных слухах во времена Нерона и краткой гражданской войне после его смерти. Всемирная проповедь объявляется завершенной в проповеди апостолов. Мерзость запустения, конечно, — это разрушение Иерусалима и Храма войсками Веспасиана с римскими орлами на знаменах. Звук трубы — христианская проповедь. Какие-то несовпадающие детали (например, астрономические знамения) объясняются апокалиптической гиперболой в языке Христа [см.: Gentry, 1992, 342–351].
Ясно, что все эти аргументы во многом происходят от мечтательности авторов. Наша просьба к Богу не отменяет нашей свободной воли. Для многих эта свободная воля остается препятствием к принятию Христа, Его заповедей и Его Церкви. Иудеи в притворе Соломоновом требовательно спрашивали у Спасителя: Долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо (Ин 10:24). Но ведь ждали они не Сына Божия — победителя греха, проклятия и смерти, а совсем другого царя и мессию. Точно так же до конца этого мира будут люди, которые будут искать совершенного земного господина, но вместо Христа найдут антихриста.
Сын Божий в Евангелии задается вопросом: когда Он придет, найдет ли веру на земле (Лк 18:8)? Он называет Своих последователей малым стадом (Лк 12:32). Лишь немногие находят врата, ведущие в жизнь вечную (Мф 7:14). Равным образом и в апостольских Посланиях подчеркивается какая-то особая извращенность нравов людей последнего времени. Так, подробное описание нравственности этих людей ап. Павел во Втором послании к Тимофею (люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны и проч.) завершает предупреждением об искажении даже образа поклонения Богу (имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся — 2 Тим 3:1–5). Свт. Игнатий (Брянчанинов), цитируя это место, подчеркивает, что «всеобщий разврат вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием будут знамением кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова» [Брянчанинов: О Царстве, 2014, 247]. На это стоит обратить особое внимание по двум причинам. Во-первых, мы видим вокруг нас все усиливающееся стремление к комфорту, все больше возможностей с помощью техники удовлетворять этому желанию, а также растущую невиданными темпами индустрию развлечений — свидетельство всеобщего уныния и печали. Во-вторых, для постмилленаристов «золотой век» человечества, который должен перейти в обещанное тысячелетие, зиждется не на духовном преуспеянии, а именно на вещественном развитии. Господство постмилленаризма в Новое время было обусловлено техническим прогрессом и успешной миссионерской деятельностью, подкрепленной военными и захватническими успехами протестантских стран. Однако, вопреки оптимизму постмилленаристов, технический прогресс приведет не ко всеобщему покаянию и обращению ко Христу, но к тому, что «люди забудут Бога, забудут Небо, забудут вечность» ради приобретения себе на земле «неизменного благосостояния» [Брянчанинов: О Царстве, 2014, 245–246].
Наряду с общей безнравственностью и религиозным лицемерием в то время будет встречаться и прямое отступничество от веры (ср. 1 Тим 4:1). Конечно, это было бы невозможно, если бы Христос на протяжении предшествующего периода царствовал бы как внешне, так и в сердцах людей, и они бы знали и чувствовали это живительное присутствие Сына Божия.
Что касается успехов проповеди Евангелия Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам (Мф 24:14), то это еще не означает принятия этой проповеди народами. Так, свт. Иоанн Златоуст замечает, что проповедь будет во свидетельство, то есть в обличение, в осуждение не уверовавших. Для обличения не веровавших иудеев, продолжает он, уже при апостолах благовествование было возвещено всей твари поднебесной (Кол 1:23) [Златоуст, 1901, 755]. Такое толкование обще для православных отцов: вселенная уже просвещена, это знамение конца века исполнено, поэтому не следует ожидать какой-то особой проповеди в конце времен [см., напр.: Кирилл Иерусалимский, 2010, 236; Кирилл Александрийский, 2001, 318; Максим Грек, 1910, 74; Иннокентий Херсонский, 1908, 322–323]. В то же время мы знаем о раздвижении границ ойкумены после Византии, чрезвычайном увеличении народонаселения и изменении средств коммуникации. Все это позволяет говорить о том, что некогда проповедь достигнет не просто народов, но каждого конкретного человека. Именно в этом суть пророчества о проповеди всем народам.
Вместе с тем апостолы кровью засвидетельствовали свою верность Христу, но не подчинили себе ни одного государства. Поэтому и в последние времена истинная проповедь будет находить немногих слушателей и обратит лишь избранных. Подавляющее большинство людей отнесется к проповеди и к проповедникам так же, как они отнесутся к двум свидетелям из одиннадцатой главы книги Откровения. После их убийства «живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу» (Откр 11:10).
Это будет проповедь чистой православной веры. Уже несколько веков обширные, хорошо оплачиваемые католические и протестантские миссии несут слово о Христе в разных частях мира. Однако к началу XX в., по слову свт. Николая Японского, большая часть народов еще не слышала Евангелия Царства, а «западные народы слушают Евангелие, затемненное извращениями католичества и протестантства»5. Поэтому в последние времена Господь обещает, что до пределов вселенной будет услышан голос истинной Христовой Церкви и будет возвещена православная вера. Православные отцы нередко особо отмечают проповедь перед приходом антихриста как знамение конца века.
Так и ап. Павел, описывая апостольскую проповедь, говорит: Но не все послушались благовествования… Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их (Рим 10:16–18) [см., напр.: Дамаскин, 2002, 332; Попович, 2005, 70–71]. Нельзя сказать, что последняя проповедь будет совершенно безуспешной: в Церковь войдет полное число язычников, многие из иудеев вновь вернутся к истинной вере и спасутся (Рим 11). Однако общий вектор веры и нравственности, скорее, будет носить антихристианский характер (ср., напр., Иуд 18–19, 1 Тим 4:1–3, 2 Тим 3:1–9). Итак, проповедь будет для избранных — во спасение, а для ожесточенных сердцем — во свидетельство.
Что касается приводимых постмилленаристами ветхозаветных пророчеств, то они не подтверждают их выводов. Так, в этих пророчествах говорится о будущем познании Бога всеми народами. Однако, как было показано, это не означает принятия истинной веры всеми без исключения людьми. Например, в Ис 45:22 содержится не утверждение об обращении всех людей, а лишь призыв к ним, который не имеет эсхатологического характера: ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли . Пророчество Ос 2:23 ( скажу не Моему народу: «ты Мой народ» ) уже исполнено в Церкви, как то показал ап. Павел (Рим 9:25–26).
Царствование Христа на земле уже исполнилось в Его первом пришествии, как Он Сам о том свидетельствовал на суде у Пилата (Ин 18:37). В полноте славы Он будет царствовать не в течение тысячелетия, но в вечности, после Второго Пришествия. Об этом говорят нам и пророки (напр., Дан 2:44). Кроме того, ряд пророчеств говорит не о славном Царстве Мессии, а о собирании всех народов в Церковь — гору дома Господня (Ис 2:2, Мих 4:1), хранительницу Нового Завета (Иер 31:31–34).
Непонятен статус Иисуса Христа в постмилленаристском тысячелетнем царстве. Так, Он может находиться на небе и править оттуда, но в таком случае не исполнится существенный признак царства — соцарствование святых со Христом (Откр 20:6). Прп. Ефрем Сирин, обличая мечтания о тысячелетнем царстве, подчеркивает, что в нем «нет на земле Христа. А если Он не был с ними, то и не соцарствовал» [Ефрем Сирин, 2014, 203]. В Писании мы также нигде не видим описания славного Царства без Царя. Если же Христу придется как-то явиться на землю в течение тысячелетия, то, строго говоря, это и будет Второе Пришествие.
Таким образом, наряду с неоправданным «эсхатологическим оптимизмом» по-стмилленаризм характеризует традиционная для неопротестантов недооценка духовной борьбы христианина с врагом рода человеческого и великой помощи в этой борьбе Сына Божия, Который связал сильного и уже сейчас дарует нам венцы за труды. Для постмилленаристов тысячелетнее царство, как уже было сказано, в известном смысле является ответом Бога на вопль мучеников первого столетия. Напротив, для православных бескровное мученичество в борьбе с грехом и скорбями продолжается до сего дня. Православные подвижники подчеркивают это, в отличие от любого рода неопротестантов6. Царство Христово — это не всеобщая евангелиза-ция, а причастие Божественной благодати здесь и сейчас: «Благодать Божия, осенив кающегося, разрушает в нем царство греха, водворяет Царство Божие, соделывается достоверным залогом на получение вечных благ. Залог, будучи обручением блаженства, и сам — блаженство» [Брянчанинов: Плач, 2014, 374]. Для верных через эти труды и скорби продолжается и соучастие в Царстве Христа, дарующего нам победу.
Список литературы Эсхатологическая доктрина постмилленаризма в современном баптизме
- Игнатий (Брянчанинов), свт. О Царстве Божием.Поучение в понедельник 26-й недели // Он же. Творения. М., 2014. Т. 3. С. 244-250.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. Плач инока о брате его,впадшем в искушение греховное // Он же. Творения. М., 2014. Т. 4. С. 325-394.
- Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры //Он же. Источник знания. М., 2002. С. 156-337.
- Ефрем Сирин, прп. Слово 96, о покаянии // Он же. Творения. М.,2014. Т. 3. С. 165-216.
- Исаак, иером. Житие старца Паисия Святогорца.М., 2006.
- Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея // Он же.Творения. СПб., 1901. Т. 7. Кн. 2.
- Иннокентий Херсонский, свт. Что чудесного сделал Промысл в пользу христианства // Он же. Сочинения. СПб., 1908. Т. 6. С. 318-349.
- Кирилл Александрийский, свт. Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Исход // Он же. Творения. М., 2001. Т. 2.
- Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 2010.
- Максим Грек, прп. Слово 2-е, о том же, к благочестивым против богоборца и пса Магомета; здесь же отчасти и сказание о кончине века сего // Он же. Догматико-полемические сочинения. Сергиев Посад, 1910. С. 70-82.
- Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Эсхатология. М., 2005.
- Райри Ч. Основы богословия. М., 1997.
- Никон (Рождественский), архиеп. Православие и грядущиесудьбы мира. М., 2013.
- Толкование ветхозаветных книг от книги Бытие по книгу Руфь.Ашфорд, 1992.
- Теология завета // Теологический энциклопедический словарь / Под ред.У. Элвелла. М., 2003.
- Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостолаь Павла к Римлянам. Главы 9-16. М., 2006.
- Феофан Затворник, свт. Толкования Посланий апостола Павла к Солунянам, к Филимону, к Евреям. М., 2005.
- Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на Апостол. Б. м., 2006.
- Эриксон М. Христианское богословие. СПб., 1999.
- Gentry K. L. Agony, Irony, and the Postmillennialist: A Response to Gaffin, Strimple, and White // Westminster Theological Journal. 2001. 63. № 2. P. 421-434.
- Gentry K. L. He Shall Have Dominion. A Postmillennial Eschatology. Tyler, Texas, 1992.
- Gentry K. L. Te Postmillennial Vision of Christian Eschatology // Criswell Theological Review. 2013. 11. № 1. P. 89-101.
- North G. Rapture Fever. Why Dispensationalism Is Paralyzed. Tyler, 1993.
- Smith R. A. Te Covenantal Kingdom. A Brief Summary of Te BiblicalArgument for Postmillennialism. Arlington Heights, 1999.
- White R. F. Agony, Irony and Victory in Inaugurated Eschatology: Reflections on the Current Amillennial-Postmillennial Debate // Westminster Theological Journal.2000. 62. № 2. P. 161-176.