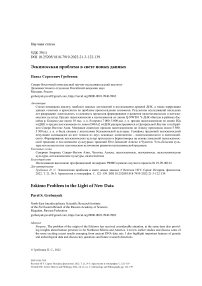Эскимосская проблема в свете новых данных
Автор: Гребенюк П. С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу наиболее важных достижений в исследовании древней ДНК, а также корреляции данных генетики и археологии по проблеме происхождения эскимосов. Результаты исследований последних лет раскрывают длительность и сложность процессов формирования и развития палеоэскимосских и неоэскимосских культур. Предки палеоэскимосов и неоэскимосов по линии Q-NWT01 Y-ДНК обитали в районах бассейна р. Колыма уже около 10 тыс. л. н. В период 7 000-5 000 кал. л. н. предки палеоэскимосов по линии D2a мтДНК и предки неоэскимосов по линии D4b1a2 мтДНК распространяются в Центральной Якутии и на Крайнем Северо-Востоке Азии. Миграция азиатских предков палеоэскимосов на Аляску произошла около 5 500- 5 300 кал. л. н. и была связана с носителями белькачинской культуры. Генофонд предковой неоэскимосской популяции складывался на юге Аляски из двух основных компонентов - палеоэскимосского и палеоиндейского. Формирование неоэскимосских культур проходило в Берингоморье на основе локальной палеоэскимосской традиции и под влиянием культурных традиций Юго-Западной Аляски и Чукотки. Усть-бельская культура могла выступить генетическим источником развития неоэскимосской традиции.
Северная америка, северо-восток азии, чукотка, аляска, палеоэскимосы, неоэскимосы, палеоэскимосские культуры, неоэскимосские культуры, палеогенетика
Короткий адрес: https://sciup.org/147236281
IDR: 147236281 | УДК: 39(1) | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-3-122-139
Текст научной статьи Эскимосская проблема в свете новых данных
Эскимосами называют группу коренных народов, составляющих коренное население обширной территории от Гренландии и Канады до Аляски и Чукотки. Языки эскимосов относятся к эскимосской ветви эскимосско-алеутской языковой семьи. Эскимосы относятся к арктической группе антропологических типов, составляющей вместе с южной и дальневосточной группами тихоокеанскую ветвь монголоидной расы.
В научной литературе высказывались различные точки зрения и теории по заявленной теме [Арутюнов, Сергеев, 1969; 1975; Диков, 1979; Bandi, 1969]. В настоящей статье на основе исследований предыдущих лет и недавних открытий предлагается современный взгляд на основные дискуссионные вопросы, составляющие «эскимосскую проблему». Среди них ключевыми являются вопросы происхождения эскимосов и возникновения специализированной культуры морских охотников, которые также непосредственно связаны с проблемой развития древних культур и миграций в Северной Америке и на Северо-Востоке Азии.
В результате многолетних археологических исследований на обширной территории от Чукотки до Гренландии была выявлена серия археологических культур различной хронологии. В самом общем виде историю этих культур разделяют на две традиции. Неоэскимосская традиция («традиция Туле»), получившая начальное развитие в Берингоморье с конца I тыс. до н. э., включала культуры Оквик, Древнеберингоморскую, Бирнирк, Пунук и Туле. Носители этой традиции являлись предками современных инуитов, инупиатов и юпиков. До появления неоэскимосской традиции существовала отличная палеоэскимосская традиция (~ 3 200 г. до н. э. – 1 300 г. н. э.), к которой некоторые исследователи относят комплекс Ден-би-Флинт, поселение древнекитобойной культуры на м. Крузенштерн, культуры Чорис, Нортон и Ипиутак на Аляске, культуры Саккак, Индепенденс, Пре-Дорсет и Дорсет в Канадской Арктике и Гренландии, а также палеоэскимосские памятники Чукотки.
Происхождение палеоэскимосов и их культуры
Наиболее ранние археологические свидетельства, подтверждающие наличие приморской адаптации в арктических и субарктических регионах, обнаружены в Северо-Восточной Па-цифике: в Британской Колумбии и на Юго-Востоке Аляски – в период до 10 000 кал. л. н., на Алеутских островах (традиция Анангула) ~ 9000 кал. л. н., а также на о. Кодьяк (Оушен-бэй) ~ 7 500 кал. л. н. Становление характерной для палеоэскимосов специализированной культуры морских охотников начиная с ~ 5 000–4 500 кал. л. н. проходило в арктических районах Аляски, Канады и Гренландии. Основой развития палеоэскимосских культур стала «арктическая традиция малых орудий» (AST – Arctic small tool tradition), в рамках которой обычно выделяют комплекс Денби-Флинт на Аляске и ранние палеоэскимосские культуры Канадской Арктики и Гренландии (Саккак, Индепенденс I, Пре-Дорсет). В научной литературе также используется разделение на Западную AST, которая распространялась на Аляске, и Восточную AST в Канадской Арктике и Гренландии. Как отмечает С. Б. Слободин, при обращении к материалам Западной AST важно учитывать, что часть ученых следует схеме, предложенной Дж. Гиддингсом и Д. Андерсоном, в которой они изменили оригинальную дефиницию AST В. Ирвинга, включив в нее не только комплекс Денби-Флинт на Аляске, но и следующие за ним культуры, в том числе Чорис, Нортон и Ипиутак [Slobodin, 2019, р. 434].
Происхождение традиции AST связывают с экспансией через Берингов пролив носителей древних культур Северо-Востока Азии, археологические комплексы которых обнаруживают сходство с индустрией комплекса Денби-Флинт на Аляске [Powers, Richard, 1990, p. 666; Slobodin, 2019]. По результатам молекулярного датирования, миграция предков палеоэскимосов на Аляску могла начаться ~ 5 500 кал. л. н. [Rasmussen et al., 2010]. В этот период в интервале 5 200–4 100 14C л. н. (6 000–4 700 кал. л. н.) в Северо-Восточной Сибири распространяется белькачинская культура, стоянки которой обнаружены в долине р. Алдан, на Нижней Лене, Таймыре и Западной Чукотке. В область распространения этой традиции также входила восточная часть Чукотского п-ова, а ее влияние достигало Камчатки [Мочанов, Федосеева, 1976, c. 524]. Для белькачинской культуры характерны шнуровая керамика, основы для вкладышевых орудий, острия, шилья и иглы из кости, каменные шлифованные тесла с ушками, ступенчатые тесла с высокой спинкой, клювовидные комбинированные орудия, иволистные и треугольные бифасиальные наконечники, многофасеточные резцы. Керамика с отпечатками шнура также найдена в Приморье, Забайкалье, на Сахалине, Курильских островах и в Японии [Мочанов, 1967; Яншина, 2011].
Исследователи указывают белькачинскую культуру как возможный источник появления в Американской Арктике «арктической традиции малых орудий» [Potter, 2010]. Археологические комплексы белькачинской культуры обнаруживают сходство с индустрией AST комплекса Денби-Флинт [Ackerman, 1998]. В недавнем исследовании С. Б. Слободин отметил, что в неолитических комплексах на Колыме и Чукотке и в материалах комплекса Денби-Флинт на Аляске помимо микропластинок фиксируются такие сходные типы орудий, как мелкие треугольные наконечники, округлые в плане ретушированные скребки; клювовидные комбинированные орудия; угловые и многофасеточные резцы, концевые и боковые вкладыши, резцы, тесла с частично шлифованным лезвием и др. [Slobodin, 2019]. Наиболее надежная серия радиоуглеродных дат показывает для комплекса Денби-Флинт диапазон 4 500– 2 500 кал. л. н. [Tremayne, Rasic, 2016].
Почти все палеоэскимосские образцы, секвенированные в палеогенетических исследованиях последних лет, принадлежат к гаплогруппе D2a мтДНК. Эта гаплогруппа также обнаружена у современных алеутов, чукчей, сирениковских эскимосов и индейцев на-дене, но при этом почти не фиксируется у современных инуитов. Исследования мтДНК выявили прямое сходство между древними и современными алеутами, с одной стороны, и носителями палеоэскимосских культур Канадской Арктики и Гренландии, с другой [Raghavan et al., 2014; Flegontov et al., 2019].
Палеогенетическое исследование древнего индивида из Дуванного Яра показало, что предки палеоэскимосов по линии Q-NWT01 Y-ДНК обитали в районах бассейна Колымы еще на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена (9 800 кал. л. н.) [Sikora et al., 2019]. Предполагается, что древняя палеосибирская популяция, представленная геномом древнего человека из Дуванного Яра, представляла собой особую ветвь палеолитического населения Сибири, которая была широко распространена в Северо-Восточной Азии. В значительной степени она стала предковой для многих групп населения голоцена Крайнего Северо-Востока Азии и Северной Америки, в том числе для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской общности, а также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков.
Палеогенетическое исследование древних индивидов из сыалахского погребения Матта-1 возрастом ~ 6 800 кал. л. н. и белькачинского погребения Оннес на р. Амга возрастом ~ 6 300 кал. л. н. выявило наличие гаплогрупп F1d и D4b1c мтДНК, а сравнение аутосомных локусов показало их близость к палеоэскимосским линиям (индивиду культуры Саккак) [Kılınç et al., 2018; 2021]. Генофонд палеоэскимосов складывался из двух компонентов – древнего палеосибирского, представленного геномом индивида из Дуванного Яра, и восточноазиатского, близкого к тем, что обнаружены у индивидов из сыалахского погребения Матта-1, белькачинского погребения Оннес, а также пещеры Чёртовы Ворота в Приморье и представителя китойской культуры в захоронении на оз. Ножий в Забайкалье. По всей видимости, миграция предков палеоэскимосов на Аляску произошла в период около 5 500– 5 300 кал. л. н. и была связана с представителями белькачинской культуры.
Палеоэскимосы заселили огромные территории от Юго-Западной Аляски до Гренландии, сменили популяции Северной Архаической традиции на северо-западе Аляски и были первыми людьми, поселившимися в арктических регионах Канады и Гренландии. Активное распространение этой популяции в Северной Америке началось около 5 000–4 500 кал. л. н. с развитием комплекса Денби-Флинт на Аляске, и в следующие 3 000 лет фиксируется генетическая и культурная преемственность этой традиции в Североамериканской Арктике. Люди Денби-Флинт были мобильны, многие обнаруженные памятники представляют собой временные лагеря охотников на оленей, численностью до 10–15 чел., вероятно, связанных родственными узами. Летом они выходили на морское побережье с целью промысла морских животных [Tremayne, Rasic, 2016].
Каменная индустрия традиции AST включает микропластинки – в большинстве продолговатые чешуйки маленького размера длиной до 5 см, микронуклеусы особого типа (отличные от типичных конических или призматических, их определяли как пирамидальные), бифасиально ретушированные плоские наконечники треугольной и листовидной формы, боковые вкладыши асимметричной формы и со скошенным основанием, ножи на отщепах, рукавичковидные резцы (mitten-shape) и резцовые сколы с них, шлифованные резцы, ретушированные и шлифованные резчики (резчики со шлифованными лезвиями), ретушированные тесла, проколки, концевые и боковые скребки различной конфигурации, черешковые и листовидные ножи и другие материалы [Slobodin, 2019; Tremayne, Rasic, 2016].
В качестве сырья использовались микрокристаллический кварц (кремнистый сланец, агат, халцедон), кристаллический сланец (мыльный камень, или стеатит), нефрит, обсидиан и др. Характерная особенность каменной индустрии – это малый размер изделий, в том числе микропластинок и резцов, которые использовались в повседневной жизни и инвентаре кочевых охотников в качестве режущих инструментов и для обработки органических материалов. Предполагается, что наконечники малого размера с приостренным насадом и прямым основанием использовались для стрел, асимметричные боковые острия – для копий или острог, плоские треугольные наконечники применялись в качестве копьеца гарпунов [Tremayne, Rasic, 2016].
Археологические следы первопроходцев традиции AST в Канадской Арктике возрастом ранее 4 500–4 400 кал. л. некоторые исследователи объединяют под наименованием «Начальный Пре-Дорсет» [Friesen, 2016, р. 676]. На основе Начального Пре-Дорсета в Канадской Арктике и Гренландии возникли последующие палеоэскимосские культуры. Наблюдается прямая линия развития от первых памятников комплекса Денби-Флинт и Начального ПреДорсета до появления и развития ранних палеоэскимосских культур Пре-Дорсет (4 500– 2 700 кал. л. н.), Индепенденс I (4 500–3 800 кал. л. н.) и Саккак (4 500–2 800 кал. л. н.).
В отличие от материалов комплекса Денби в ранних палеоэскимосских культурах в значительном количестве присутствует костяной инвентарь, включающий наконечники гарпунов, острог, дротиков, костяные рукоятки резчиков, иглы, проколки и другие костяные изделия. Ранние палеоэскимосы в континентальных районах охотились на овцебыка и оленя, занимались рыболовством и охотой на птиц, а в прибрежной зоне охотились на тюленей на льдинах и в открытом море. Нет точных сведений о социальной организации ранних палеоэскимосов. Скорее всего, они обладали анимистическим мировоззрением и имели шаманов, использовали ритуальное пение и танцы, судя по найденному фрагменту ободка барабана. Вероятно, ранние палеоэскимосы развивались в относительной изоляции от одновременных более южных культурных традиций, хотя исследователи не исключают контакты, в том числе с представителями морской архаической традиции на Лабрадоре. Останки собак присутствуют на небольшом количестве стоянок ранних палеоэскимосских культур, существуют фрагментарные свидетельства использования саней, вероятно, собак использовали на охоте [Friesen, 2016].
В рамках ранних палеоэскимосских культур Канадской Арктики и Гренландии происходит оформление специализированной палеоэскимосской традиции, среди основных элементов которой можно выделить следующие: орудийный набор, представленный тщательно обработанными изделиями мелкого размера; миниатюрные иглы из кости для пошива одежды из шкур; использование небольших лодок и специализированного гарпунного комплекса для морского зверобойного промысла, включающего характерные поворотные и зубчатые наконечники гарпунов; лук и стрелы для охоты на оленя и овцебыка; легкие переносные жилища из шкур с деревянным каркасом, устройство жилища с выложенным по центру проходом и наличие прямоугольного очага; жирники из камня, отсутствие технологий гончарного производства.
Самобытность палеоэскимосских культур, специфика и особенности их развития были обусловлены географическим и временным факторами. Это были различные культуры, расположенные на значительном расстоянии, тем не менее можно говорить об одной и той же популяции, генетически идентичных, говорящих на одном языке людей, обладающих общим мировоззрением, общественным устройством и технологиями. Появление палеоэскимосской традиции на Крайнем Северо-Востоке Азии следует связывать с обратной миграцией в зону Берингова пролива палеоэскимосских групп Канадской Арктики и Аляски, причины которой могли быть вызваны изменением климатических условий, повлиявшим на морских млекопитающих и человека. Палеоэскимосская культурная традиция на Чукотке представлена стоянкой Чёртов Овраг на о. Врангеля (3 300–2 850 14C л. н. / 3 500–2 900 кал. л. н.) и поселением Уненен (3 300–2 900 14C л. н. / 3 500–3 000 кал. л. н.) [Диков, 1979, с. 165–167; Гусев, 2014].
Все палеоэскимосские культуры отличались определенным своеобразием и существовали на огромной территории (табл. 1). В настоящий момент предполагается, что токаревская культура Северного Приохотья может быть генетически связана с палеоэскимосским кругом археологических культур [Лебединцев, 2019]. Влияние палеоэскимосской традиции на уровне каменной индустрии проявляется в отсутствии пластинчатой техники, характерной для континентальных культур, и в особенностях орудийного набора – наличии мелких изделий из халцедона: миниатюрных наконечников стрел, скребков овальной формы, вкладышей, мелких ножей листовидной формы. Для стоянок этой традиции характерно использование прямоугольного очага, идентичного по форме очагам на стоянке Чёртов Овраг на о. Врангеля. Носители токаревской культуры обладали технологически развитым арсеналом для морского зверобойного промысла – поворотными наконечниками гарпунов традиции Дорсет с открытым гнездом, характерными зубчатыми наконечниками гарпунов, аналоги которых распространены на Юго-Западной Аляске и Алеутских островах.
Таблица 1
Хронологическая схема палеоэскимосской традиции и близких культур *
Cultural chronology of the Paleoeskimo tradition and related cultures
**
Table 1
|
Период (кал. лет) |
Аляска |
Канадская Арктика и Гренландия |
Чукотка и Северное Приохотье |
|
500–1250 гг. |
Поздний Дорсет |
||
|
200–800 гг. |
Ипиутак |
||
|
1–500 гг. |
Средний Дорсет |
||
|
750 г. до н. э. – 600 г. н. э. |
Нортон |
||
|
800–1 гг. до н. э. |
Ранний Дорсет |
||
|
800–100 гг. до н. э. |
Индепенденс II |
||
|
800 г. до н. э. – 500 г. н. э. |
Токаревская культура |
||
|
1000–400 гг. до н. э. |
Чорис |
||
|
Около 1000 г. до н. э. |
Чёртов Овраг |
||
|
1150–850 гг. до н. э. |
Древнекитобойная культура |
||
|
1500–1300 гг. до н. э. |
Уненен |
||
|
2400–800 гг. до н. э. |
Саккак |
||
|
2400–1000 гг. до н. э. |
Индепенденс I Пре-Дорсет |
||
|
2900–2400 гг. до н. э. |
Начальный Пре-Дорсет |
||
|
3200 BC – 1200 гг. до н. э. |
Денби-Флинт |
* Подготовлено по: [Гусев, 2014; Диков, 1979; Лебединцев, Кузьмин, 2010; Darwent C., Darwent J., 2016; Du-mond, 2016; Grønnow, 2016; Mason, 2016; Milne, Park, 2016; Ryan, 2016; Tremayne, Rasic, 2016].
** Prepared according to: [Gusev, 2014; Dikov, 1979; Lebedintsev, Kuzmin, 2010; Darwent C., Darwent J., 2016; Dumond, 2016; Grønnow, 2016; Mason, 2016; Milne, Park, 2016; Ryan, 2016; Tremayne, Rasic, 2016].
Носители токаревской культуры по линии G1b мтДНК и по линии Q-NWT01 Y-ДНК являются потомками индивида из Дуванного Яра, а по линии D2a1 мтДНК древние обитатели стоянки Ольская генетически не отличаются от палеоэскимосов Гренландии (культура Сак-как). Синхронно токаревской культуре в Канадской Арктике период 800–500 гг. до н. э. рассматривается как переходный от Пре-Дорсет к Дорсет, период 500–300 гг. до н. э. – Ранний Дорсет, период 300 г. до н. э. – 500 г. н. э. – Средний Дорсет. На западном побережье Аляски развиваются культуры Чорис (между 750–400 гг. до н. э.) и Нортон (с 500 г. до н. э.) [Du-mond, 2016; Milne, Park, 2016; Darwent C., Darwent J., 2016; Grønnow, 2016].
В связи с этим можно привести результаты исследований распространенности «арктической» мутации – варианта rs80356779-A гена CPT1A, с высокой частотой присутствующего в современных популяциях эскимосов, чукчей, коряков и других народов Охотоморского региона, хозяйственный уклад которых связан с морским зверобойным промыслом [Маляр-чук, 2020]. Согласно палеогеномным данным, самые ранние находки «арктического» варианта гена CPT1A обнаружены у гренландских и канадских палеоэскимосов (4 000 л. н.), у представителей токаревской культуры Северного Приохотья (3 000 л. н.) и у носителей культуры позднего дземона о. Хоккайдо (3 800 – 3 500 л. н.). Результаты анализа Б. А. Малярчука позволили выявить несколько миграционных событий, связанных с распространением морских охотников в Охотоморском регионе. Так, самая поздняя миграция, оставившая следы у носителей культуры эпи-дземон (2 500–2 000 л. н.), принесла из районов Северного Приохотья и Камчатки на Хоккайдо и территории Приамурья митохондриальную гаплогруппу G1b и «арктический» вариант гена CPT1A [Малярчук, 2020].
Происхождение неоэскимосов и их культуры
Неоэскимосская традиция («традиция Туле»), включала разновременные и иногда частично сосуществующие культуры [Арутюнов, Сергеев, 1975; Диков, 1979, c. 169–226; Bronshtein et al., 2016]. Носители неоэскимосской традиции являлись предками современных инуитов, инупиатов и юпиков. Их потомки в настоящее время говорят на языках эскимосской ветви эскимосско-алеутской языковой семьи, представленной инуитской группой языков, распространенных на Аляске, в Канаде и Гренландии, и юпикской группой языков – в западной части Аляски и на Чукотке.
По мнению ряда исследователей, расхождение протоэскимосского и протоалеутского языков произошло около 4 000 л. н. [Fortescue, 1998; Berge, 2016]. Юитские языки Чукотки (науканский и чаплинский) и сиреникский язык связаны с миграцией неоэскимосских групп и развитием неоэскимосских культур Берингоморья с конца I тыс. до н. э. Сиреникский язык, вероятно, в большей степени сохранил палеоэскимосские элементы, что связано с развитием палеоэскимосской традиции на Чукотке начиная с 3 500 кал. л. н.
Неоэскимосские культуры распознаются по формам костяных поворотных наконечников, по стилю художественной резьбы на наконечниках и других костяных изделиях. В их формировании принимали участие различные компоненты приморских и внутриконтинен-тальных популяций древнего населения Чукотки и Аляски, возникшие традиции имели определенное своеобразие. Неоэскимосские культуры возникают в Берингоморье в виде лаб-реточной культуры Оквик или первого этапа Древнеберингоморской культуры – Old Bering Sea I, за которым следуют второй и третий этапы Old Bering Sea II and III (Древнеберинго-морская культура 200 г. до н. э. – 700 г. н. э.). Для оквикского комплекса характерен простой узор из глубоких искривленных линий, костяные антропоморфные статуэтки и вырезанные из моржового клыка изображения человеческих лиц, отличающиеся вытянутыми пропорциями, поворотные наконечники гарпунов из моржового клыка с одним отверстием для линя либо с концевым копьецом, либо с боковыми вкладышами, а также «крылатые предметы» архаичной формы с прямыми короткими крыльями.
Происхождение древнеберингоморской культуры тесно связано с лабреточными культурами Чорис, Нортон и, вероятно, Ипиутак. Отмечаются аналогии с комплексами юга Аляски, традицией Качемак. Все эти комплексы характеризуются наличием однодырчатых наконечников поворотных гарпунов, лабретками, а также развитой индустрией шлифованного сланца и почти полным или полным отсутствием ножевидных пластин. Для древнеберингомор-ской культуры характерен криволинейный орнамент с «глазными» мотивами, двудырчатые наконечники гарпунов поворотного типа. На основании того, что древнеберингоморская культура безлабреточная, Н. Н. Диков выдвинул предположение об инфильтрации в древне-берингоморскую этническую среду северо-палеоазиатского населения, вероятно связанного с усть-бельской культурой [Диков, 1979, c. 212].
С возникновением и развитием 2 200–1 200 кал. л. н. неоэскимосских культур доминирование палеоэскимосов в Берингоморье и Американской Арктике прекратилось. Древнебе-рингоморская культура развивается в культуру Бирнирк (700–1300 гг. н. э.) и Пунук (800– 1200 гг. н. э.). Около 1000 г. н. э. на севере Аляски на основе культуры Бирнирк развивается культура Туле. Появление неоэскимосской культуры Туле и ее стремительное распространение после 1 200 г. н. э. на территории Канадской Арктики и Гренландии привело к исчезновению палеоэскимосских культур. Недавнее исследование показало, что азиатские ездовые собаки, на которых перемещались неоэскимосы, мигрировавшие из зоны Берингова пролива, отличались от собак палеоэскимосов по внешнему виду и генетически. Собаки неоэскимосов стали предками современных североамериканских ездовых собак [Ameen et al., 2019].
Неоэскимосские культуры эволюционировали на базе палеоэскимосской традиции, но носители этих культур генетически отличались от палеоэскимосов. Палеогенетический анализ антропологических материалов Уэленского и Эквенского могильников показал, что индивиды древнеберингоморской культуры принадлежали к линиям A2a, А2b и D4b1a2a1a мтДНК [Sikora et al., 2019; Flegontov et al., 2019]. Согласно одной из моделей, генофонд неоэскимос-ских культур складывался из двух компонентов – древнего палеосибирского, представленного геномом индивида из Дуванного Яра, и палеоиндейского, близкого к обнаруженному среди носителей культуры Кловис [Sikora et al., 2019].
Митохондриальные гаплогруппы A2a, A2b, D2a и D4b1a2a1a в своем распространении ограничены популяциями Североамериканской Арктики, включая атапасков, и населением Крайнего Северо-Востока Азии (чукчи, эскимосы, коряки). Эти гаплогруппы более характерны для чукчей и эскимосов (так, у коряков не обнаружен D2a), что отличает коренные народы Чукотки от остальных сибирских популяций – не только от юкагиров, нганасан и эвенов, но и от коряков и ительменов, для которых характерно более широкое разнообразие митохондриальных гаплогрупп различного возраста.
В отношении гаплогрупп A2a и A2b есть основания считать, что они возникли ~ 4 000– 2 000 кал. л. н. на Аляске на основе предковых A2-гаплотипов, появившихся в Центральной Берингии ~ 15 000 л. н. [Dryomov et al., 2015]. Гаплогруппа D4b1a2a1a, выявленная среди современных эскимосов, чукчей, коряков, а также носителей неоэскимосских культур [Raghavan et al., 2014; Sikora et al., 2019; Tackney et al., 2019], имеет азиатское происхождение. Присутствие подгруппы Q-B34 Y-ДНК у азиатских эскимосов и коряков ученые объясняют обратной миграцией, связанной с появлением неоэскимосских культур на Чукотке и ассоциированной с миграцией группы A2a мтДНК из Аляски [Grugni et al., 2019]. Таким образом, гаплогруппы А2а и А2b мтДНК, присутствующие в генофонде чукчей, коряков и азиатских эскимосов, отражают последствия миграции предков неоэскимосов, перенесших через Берингов пролив палеоиндейский генетический компонент и языки эскимосско-алеутской семьи.
Согласно модели, предложенной П. Флегонтовым с соавторами, после разделения предковых палеоэскимосской и чукотско-камчатской популяций одна из предковых групп палеоэскимосов около 4 800 л. н. в ходе миграции в Америку смешалась на юге Аляски с группой «первых американцев», дав начало народам эскимосско-алеутской языковой семьи. По мнению авторов исследования, вскоре после смешения с индейскими племенами предки палеоалеутов мигрировали на Алеутские острова, где пребывали в относительной изоляции, что объясняет отсутствие у алеутов чукотско-камчатской примеси. Другая группа мигрировала на Север в сторону Берингова пролива, оставив след в развитии археологических культур Чорис и Нортон, а затем на Чукотке выступила этнокультурной основой для развития древ-неберингоморской культуры [Flegontov et al., 2019]. Предложенная модель в целом согласуется с имеющимися данными археологии и лингвистики. Возникновению в конце I тыс. до н. э. на азиатской стороне Берингова пролива высокоспециализированных неоэскимосских культур предшествовали предварительные этапы миграционных волн со стороны Аляски. Исследователями отмечалось, что около 2 000 лет до н. э. начинается активное перемещение эско-алеутских групп Юго-Западной Аляски в сторону Берингова пролива и далее на запад [Bandi, 1969, р. 182]. Как было отмечено, расхождение протоэскимосского и протоалеутского языков также помещается исследователями в период около 4 000 л. н.
Заключение
Результаты исследований показывают длительность и сложность процессов формирования и развития палеоэскимосских и неоэскимосских культур (табл. 2). За последнее десяти- летие было проведено большое количество палеогенетических исследований антропологических материалов, однако до настоящего времени единственным полногеномным исследованием палеоэскимосов остается геном индивида культуры Саккак, секвенированный в 2010 г. командой Эске Виллерслева из Центра геогенетики Университета Копенгагена. Это ограничивает возможности для построения детальных реконструкций миграций древнего населения, тем не менее позволяет в общих чертах строить модели древней истории на стыке Азии и Америки.
Таблица 2
Условная хронологическая схема основных палеоэскимосских и неоэскимосских культур *
Table 2
Provisional cultural chronology of the main Paleoeskimo and Neoeskimo traditions **
|
кал. н. э. |
Берингоморье и Чукотка |
СевероЗападная Аляска |
Центральная Американская Арктика |
Гренландия и Крайний Север Канады |
|
2000 |
Юпики Инупиаты |
Инупиаты |
Инуиты |
|
|
1600 |
Туле |
|||
|
1000 |
Бирнирк Пунук |
Бирнирк |
Поздний Дорсет |
|
|
500 |
Древнеберинго-морская культура Оквик |
Ипиутак Нортон |
Средний Дорсет |
|
|
0 |
Нортон |
Ранний Дорсет |
||
|
Нортон |
||||
|
500 |
||||
|
Чорис |
Пре-Дорсет |
Саккак Индепенденс I Пре-Дорсет |
||
|
1000 |
Чёртов Овраг |
Денби-Флинт |
||
|
Уненен Древнекитобойная культура |
||||
|
1500 |
||||
|
Денби-Флинт |
||||
|
2000 |
||||
|
2500 |
||||
|
3200 |
||||
|
кал. до н. э. |
||||
* Подготовлено по: [Гусев, 2014; Диков, 1979; Лебединцев, Кузьмин, 2010; Darwent C., Darwent J., 2016; Du-mond, 2016; Grønnow, 2016; Mason, 2016; Mason, Friesen, 2017; Milne, Park, 2016; Ryan, 2016; Tremayne, Rasic, 2016].
** Prepared according to: [Gusev, 2014; Dikov, 1979; Lebedintsev, Kuzmin, 2010; Darwent C., Darwent J., 2016; Du-mond, 2016; Grønnow, 2016; Mason, 2016; Mason, Friesen, 2017; Milne, Park, 2016; Ryan, 2016; Tremayne, Rasic, 2016].
Можно представить следующий сценарий происхождения эскимосов и развития ранней приморской адаптации. Палеогенетическое исследование показало, что предки палеоэскимосов и неоэскимосов по линии Q-NWT01 Y-ДНК обитали в районах бассейна Колымы еще на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена. Один из рефугиумов для древней палеосибирской популяции и других групп населения на исходе позднего плейстоцена мог находиться на территории Камчатки. На уникальном комплексе Ушковских стоянок представлены материалы и безмикропластинчатой традиции – ранняя ушковская культура (культурный слой VII стоянок Ушки I и V) и берингийской традиции – поздняя ушковская культура (культурный слой VI). Н. Н. Диков рассматривал носителей ранней ушковской культуры как палеоиндейцев и предполагал возможность их миграции на территорию Северной Америки в финале позднего плейстоцена, а материалы поздней ушковской культуры (культурный слой VI) первоначально интерпретировались им в качестве основы для «протоэскимосо-алеутской миграции» в Америку [Диков, 1979, с. 74]. В связи с этим необходимо проведение одонтологического исследования серии молочных зубов из коллективных погребений и па-леогенетический анализ антропологических материалов верхнепалеолитического культурного слоя VI стоянки Ушки I [Федорченко, 2018, c. 117–118].
В период 7 000– 5 000 кал. л. н. предки палеоэскимосов по линии D2a мтДНК и предки неоэскимосов по линии D4b1a2 мтДНК распространяются в Центральной Якутии и на Крайнем Северо-Востоке Азии. В генофонде палеоэскимосов выявлены геномы древнего палеосибирского (индивид из Дуванного Яра, гаплогруппа G1b мтДНК) и восточноазиатского населения, близкого к тем, что обнаружены у древних индивидов из сыалахского погребения Матта-1 и белькачинского погребения Оннес. Миграция азиатских предков палеоэскимосов на Аляску произошла около 5 500–5 300 кал. л. н. и была связана с представителями белька-чинской культуры. Однако один из ключевых элементов белькачинской традиции – шнуровая керамика – не отмечен в комплексе Денби-Флинт или ранних палеоэскимосских культурах.
Остается неясным, как соотносятся предки палеоэскимосов и древние палеосибирцы, где и как проходило смешение популяций и ответвление предковой палеоэскимосской клады, как этот процесс выражается археологически. До настоящего времени нет четкого ответа на вопрос: где и как переселенцы из Азии сформировали зачатки технологий приморской адаптации, было это до миграции через Берингов пролив или через контакты с населением ЮгоЗападной Аляски, или в результате самостоятельного развития.
Основой развития палеоэскимосских культур стала «арктическая традиция малых орудий». Мы можем наблюдать как с III тыс. до н. э. на территории Канадской Арктики и Гренландии в рамках ранних палеоэскимосских культур (культуры Пре-Дорсет, Индепенденс I, Саккак) происходит постепенное оформление специализированной палеоэскимосской традиции. В связи с этим перспективным представляется изучение проблемы появления и развития палеоэскимосской традиции в Азии и в целом вопроса обратной миграции палеоэскимосов и связанных с ними популяций. Появление палеоэскимосской традиции на Крайнем Северо-Востоке Азии связано с экспансией палеоэскимосских групп Северной Америки в район Берингоморья. К палеоэскимосскому периоду относятся временная сезонная стоянка Чёртов Овраг на о-ве Врангеля и поселение Уненен, расположенное на южной оконечности Чукотского полуострова. Токаревская культура может быть отнесена к кругу палеоэскимос-ских культур, а ее возникновение может быть связано с палеоэскоалеутской миграцией с Юго-Западной Аляски и Алеутских островов.
В настоящее время не имеется антропологических материалов с палеоэскимосских памятников Чукотки, однако есть генетические данные по современным коренным народам, проживающим на Чукотском полуострове. В этнографическое время в районе поселения Уненен между бухтами Провидения и Преображения компактно проживали сирениковские эскимосы. Это были единственные в Азии эскимосы – носители митохондриальной гаплогруппы D2a1 (маркера палеоэскимосов), говорившие на отличном от других эскимосов языке, который, как считают специалисты, представляет собой последний сохранившийся осколок третьей ветви эскимосских языков наряду с юпикской и инуитской. Вероятно, отличия этого языка могут быть связаны с палеоэскимосским прошлым его носителей.
В археологических материалах токаревской культуры прослеживается влияние палеоэс-кимосской традиции, а по линии D2a1 мтДНК древние обитатели стоянки Ольская генетически не отличаются от палеоэскимосов Гренландии, тем не менее с точки зрения генетики требуются новые материалы и дальнейшие исследования, подтверждающие эпизоды обратной миграции из Северной Америки в Азию группы D2a1 мтДНК и группы Q-B143 Y-ДНК, связанные с появлением палеоэскимосской традиции на Чукотке и в Северном Приохотье. Ключом к пониманию вопросов этногенеза древних популяций и миграций могут стать детальные исследования гена арктической мутации и новые данные для определения места, времени и условий возникновения этой мутации.
Отталкиваясь от палеогенетических и археологических данных, в самом общем виде рисуются процессы формирования и развития популяций, когда из-за ограниченности материала исследователи оперируют моделями, в которых одна популяция становится предковой для нескольких языковых семей. Одна из предковых групп палеоэскимосов около 5 000 л. н. в ходе миграции в Америку смешалась с группой «первых американцев», дав начало народам эскимосско-алеутской языковой семьи. Согласно археологическим и лингвистическим данным, формирование предковой неоэскимосской популяции, говорящей на эскимосско-алеутском языке, проходило на юге Аляски. Генофонд неоэскимосов складывался из двух основных компонентов: палеоэскимосского и палеоиндейского. Палеоэскимосская основа представлена древним палеосибирским и восточноазиатским компонентами. Формирование неоэскимосских культур проходило в Берингоморье на основе локальной палеоэскимосской традиции, а также под влиянием культурных традиций Юго-Западной Аляски и Чукотки.
Генетическую основу неоэскимосов составили палеоэскимосы (около 50 %), при этом следует отметить, что древние культуры Аляски, которые в разное время большинством исследователей или относились к палеоэскимосским, или рассматривались как связанные с ними – поселение древнекитобойной культуры на м. Крузенштерн, культуры Чорис, Нортон и Ипиутак, могли быть смешанными по этнической принадлежности их носителей. Ранее это отмечалось археологами, а сам термин «древняя эскимосская культура» употреблялся в условном смысле, так как обозначаемые им культуры могли принадлежать различным этническим группам эскимосов или не быть связанными с ними [Диков, 1979, с. 164].
По данным генетики, разнообразие в пределах гаплогрупп A2a и A2b – маркеров нео-эскимосской экспансии – в течение длительного времени формировалось на Аляске. Гапло-группы А2а и А2b мтДНК, несущие палеоиндейский генетический компонент и зафиксированные в генофонде неоэскимосов Берингоморья, отражают последствия миграции предков неоэскимосов с юга Аляски в районы побережий Берингова пролива. Происхождение ранних неоэскимосских культур тесно связано с лабреточными культурами Чорис, Нортон и, вероятно, Ипиутак, отмечается влияние усть-бельской культуры. Остается неясной структура генофонда носителей лабреточных археологических культур Чорис (1000–400 гг. до н. э.) и Нортон (750 г. до н. э. – 600 г. н. э.), вероятно, выступивших этнокультурной основной для формирования неоэскимосов, а также близкой, но более поздней лабреточной культуры Ипиутак (200–800 гг. н. э.). Как было отмечено, часть исследователей включает эти культуры в Западную AST или связывает с палеоэскимосской традицией, вместе с тем наличие лабре-ток указывает на эскалеутское влияние. В связи с этим особое место занимает и тарьинская культура, получившая распространение на территории Центральной и Южной Камчатки в период около 4 500–2 000 кал. л. н. [Там же, с. 120–126]. Присутствие в тарьинской культуре губных украшений-вставок – лабреток – позволяет рассматривать эту культуру как генетически связанную с эскалеутской ветвью (кладой).
Гаплогруппа D4b1a2a1a, также выявленная у индивидов неоэскимосских культур, имеет азиатское происхождение. Предки палеоэскимосов по линии D2a и предки неоэскимосов по линии D4b1a2 могли быть частью одновременной миграционной волны на Крайний Северо-Восток Азии. Согласно этому сценарию, предки палеоэскимосов по линии D2a пересекли Берингов пролив первыми, а предки неоэскимосов по линии D4b1a2 осели на территории
Крайнего Северо-Востока Азии. Позднее они смешались с предками неоэскимосов по линиям А2а и А2b, пришедшими в район Берингоморья с юга Аляски. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования усть-бельской культуры, которая могла выступить генетическим источником развития неоэскимосской традиции.
Список литературы Эскимосская проблема в свете новых данных
- Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский могильник). М.: Наука, 1969. 206 с.
- Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Проблемы этнической истории Берингоморья (Эквенский могильник). М.: Наука, 1975. 240 с.
- Гусев С. В. Раскопки поселения Унэнэн на Восточной Чукотке (древнекитобойная культура) в 2007–2014 гг. // Археология Арктики. Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. Вып. 2. С. 205–212.
- Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1979. 352 с.
- Лебединцев А. И. Приморские культуры Охотоморья: эскимосско-алеутское влияние // V Северный археологический конгресс: Тез. докл. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Альфа-Принт, 2019. С. 175–177.
- Лебединцев А. И., Кузьмин Я. В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Северного Приохотья (Дальний Восток России) // VI Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2010. С. 116–120.
- Малярчук Б. А. Генетические маркеры о распространении древних морских охотников в Приохотье // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2020. Т. 24, вып. 5. С. 539–544. DOI 10.18699/VJ20.646
- Мочанов Ю. А. Белькачинская неолитическая культура на Алдане // СА. 1967. № 4. С. 164–177.
- Мочанов Ю. А., Федосеева С. А. Основные этапы древней истории Северо-Восточной Азии // Берингия в кайнозое. Владивосток, 1976. С. 515–539.
- Федорченко А. Ю. Палеолитические каменные украшения культурного слоя VI Ушковских стоянок: контекст, технологии, функции // Уральский исторический вестник. 2018. № 2 (59). С. 115–123.
- Яншина О. В. Некоторые аспекты древней этнокультурной истории Сахалина // Радловский сборник: научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2010 г. СПб., 2011. С. 245–250.
- Ackerman R. E. Early Maritime Traditions in the Bering, Chukchi, and East Siberian Seas. Arctic Anthropology, 1998, vol. 35 (1), pp. 247–262.
- Ameen C., Feuerborn T., Brown S., Linderholm A., Hulme-Beaman A., Lebrasseur O., Sinding M., Lounsberry Z., Lin A., Appelt M., Bachmann L., Betts M., Britton K., Darwent J., Dietz R., Fredholm M., Gopalakrishnan S., Goriunova O., Grønnow B., Haile J., Hallsson J., Harrison R., Heide-Jørgensen M., Knecht R., Losey R., Masson-MacLean E., McGovern T., McManus-Fry E., Meldgaard M., Midtdal Å., Moss M., Nikitin I., Nomokonova T., Pálsdóttir A., Perri A., Popov A., Rankin L., Reuther J., Sablin M., Schmidt A., Shirar S., Smiarowski K., Sonne C., Stiner M., Vasyukov M., West C., Ween G., Wennerberg S., Wiig Ø., Woollett J., Dalén L., Hansen A., Gilbert M., Sacks B., Frantz L., Larson G., Dobney K., Darwent C., Evin A. Specialized Sledge Dogs Accompanied Inuit Dispersal across the North American Arctic. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, 2019, vol. 286, no. 1916. DOI 10.1098/rspb.2019.1929
- Bandi H. G. Eskimo Prehistory. London: Methuen, 1969, 236 p.
- Berge A. Eskimo-Aleut. In: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. 2016. URL: http://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199-384655-e-9 (дата обращения 15.03.2021).
- Bronshtein M. M., Dneprovsky K. A., Savinetsky A. B. Ancient Eskimo Cultures of Chukotka. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 469–488.
- Darwent C., Darwent J. The Enigmatic Choris and Old Whaling “Cultures” of the Western Arctic. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 371–394.
- Dryomov S. V., Nazhmidenova A., Shalaurova S. A., Morozov I. V., Tabarev A. V., Starikovskaya E. B., Sukernik R. I. Mitochondrial genome diversity at the Bering Strait area highlights prehistoric human migrations from Siberia to northern North America. European Journal of Human Genetics, 2015, vol. 23, pp. 1399–1404. DOI 10.1038/ejhg.2014.286
- Dumond D. E. Norton Hunters and Fisherfolk. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 395–416.
- Flegontov P., Altınışık N. E., Changmai P., Rohland N., Mallick S., Adamski N., Bolnick D. A., Broomandkhoshbacht N., Candilio F., Culleton B. J., Flegontova O., Friesen T. M., Jeong C., Harper T. K., Keating D., Kennett D. J., Kim A. M., Lamnidis T. C., Lawson A. M., Olalde I., Oppenheimer J., Potter B. A., Raff J., Sattler R. A., Skoglund P., Stewardson K., Vajda E. J., Vasilyev S., Veselovskaya E., Hayes M. G., O’Rourke D. H., Krause J., Pinhasi R., Reich D., Schiffels S. Palaeo-Eskimo genetic ancestry and the peopling of Chukotka and North America. Nature, 2019, vol. 570, pp. 236–240. DOI 10.1038/s41586-019-1251-y
- Fortescue M. Language Relations across Bering Strait: Reappraising the Archaeological and Linguistic Evidence. London, Cassell Academic, 1998, 307 p.
- Friesen M. Pan-Arctic Population Movements: The Early Paleo-Inuit and Thule Inuit Migrations. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 673–691.
- Grønnow B. Independence I and Saqqaq: The First Greenlanders. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 712–734.
- Grugni V., Raveane A., Ongaro L., Battaglia V., Trombetta B., Colombo G., Capodiferro M. R., Olivieri A., Achilli A., Perego U. A., Motta J., Tribaldos M., Woodward S. R., Ferretti L., Cruciani F., Torroni A., Semino O. Analysis of the human Y-chromosome haplogroup Q characterizes ancient population movements in Eurasia and the Americas. BMC Biology, 2019, vol. 17. DOI 10.1186/s12915-018-0622-4
- Kılınç G., Kashuba N., Yaka R., Sümer A., Yüncü E., Shergin D., Ivanov G., Kichigin D., Pestereva K., Volkov D., Mandryka P., Kharinskii A., Tishkin A., Ineshin E., Kovychev E., Stepanov A., Alekseev A., Fedoseeva S., Somel M., Jakobsson M., Krzewińska M., Storå J., Götherström A. Investigating Holocene human population history in North Asia using ancient mitogenomes. Scientific Reports, 2018, vol. 8 (1). DOI 10.1038/s41598-018-27325-0
- Kılınç G., Kashuba N., Koptekin D., Bergfeldt N., Donertas H. M., Rodríguez-Varela R., Sherwin D., Ivanov G., Kichigin D., Pestereva K., Volkov D., Mandryka P., Kharinskii A., Tishkin A., Ineshin E., Kovychev E., Stepanov A., Dalén L., Günther T., Götherström A. Human population dynamics and Yersinia pestis in ancient northeast Asia. Science Advances, 2021, vol. 7. DOI 10.1126/sciadv.abc4587
- Mason O. From the Norton Culture to the Ipiutak Cult in Northwest Alaska. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 443–468.
- Mason O., Friesen M. Out of the cold: archaeology on the Arctic Rim of North America. Washington, DC, 2017, 294 p.
- Milne S. B., Park R. Pre-Dorset Culture. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 693–711.
- Potter B. A. Archaeological patterning in Northeast Asia and Northwest North America: an examination of the Dene-Yeniseian hypothesis. In: Kari J., Potter B. A. (eds.). The Dene-Yeniseian Connection. Fairbanks, Department of Anthropology and the Alaska Native Languages Center, 2010, pp. 138–167.
- Powers W. R., Richard H. J. Human Biogeography and Climate Change in Siberia and Arctic North America in the Fourth and Fifth Millennia BP. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1990, vol. 330, no. 1615, pp. 665–670.
- Raghavan M., DeGiorgio M., Albrechtsen A., Moltke I., Skoglund P., Korneliussen T. S., Grønnow B., Appelt M., Gulløv H. C., Friesen T. M., Fitzhugh W., Malmström H., Rasmussen S., Olsen J., Melchior L., Fuller B. T., Fahrni S. M., Stafford T., Jr., Grimes V., Renouf M. A., Cybulski J., Lynnerup N., Lahr M. M., Britton K., Knecht R., Arneborg J., Metspalu M., Cornejo O. E., Malaspinas A. S., Wang Y., Rasmussen M., Raghavan V., Hansen T. V., Khusnutdinova E., Pierre T., Dneprovsky K., Andreasen C., Lange H., Hayes M. G., Coltrain J., Spitsyn V. A., Götherström A., Orlando L., Kivisild T., Villems R., Crawford M. H., Nielsen F. C., Dissing J., Heinemeier J., Meldgaard M., Bustamante C., O’Rourke D. H., Jakobsson M., Gilbert M. T., Nielsen R., Willerslev E. The genetic prehistory of the New World Arctic. Science, 2014, vol. 345. DOI 10.1126/science.1255832
- Rasmussen M., Li Y., Lindgreen S., Pedersen J. S., Albrechtsen A., Moltke I., Metspalu M., Metspalu E., Kivisild T., Gupta R., Bertalan M., Nielsen K., Gilbert M. T., Wang Y., Raghavan M., Campos P. F., Kamp H. M., Wilson A. S., Gledhill A., Tridico S., Bunce M., Lorenzen E. D., Binladen J., Guo X., Zhao J., Zhang X., Zhang H., Li Z., Chen M., Orlando L., Kristiansen K., Bak M., Tommerup N., Bendixen C., Pierre T. L., Grønnow B., Meldgaard M., Andreasen C., Fedorova S. A., Osipova L. P., Higham T. F., Ramsey C. B., Hansen T. V., Nielsen F. C., Crawford M. H., Brunak S., Sicheritz-Pontén T., Villems R., Nielsen R., Krogh A., Wang J., Willerslev E. Ancient human genome sequence of an extinct Paleo-Eskimo. Nature, 2010, vol. 463, pp. 757–762. DOI 10.1038/nature08835
- Ryan K. The “Dorset Problem” Revisited: The Transitional and Early and Middle Dorset Periods in the Eastern Arctic. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 761–781.
- Sikora M., Pitulko V. V., Sousa V. C., Allentoft M. E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., de Barros Damgaard P., de la Fuente C., Renaud G., Yang M. A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyro M., McColl H., Vasilyev S. V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E. Y., Chasnyk V. G., Nikolskiy P. A., Gromov A. V., Khartanovich V. I., Moiseyev V., Grebenyuk P. S., Fedor-chenko A. Yu., Lebedintsev A. I., Slobodin S. B., Malyarchuk B. A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J. U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandesen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R. S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Lahr M. M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D. J., Laurent Excoffier L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene. Nature, 2019, no. 570, pp. 182–188. DOI 10.1038/s41586-019-1279-z
- Slobodin S. B. Neolithic of the Northeast Asia and the Arctic Small Tool Tradition of the North America. Vestnik of Saint Petersburg University. History, 2019, vol. 64, iss. 2, pр. 415–452. DOI 10.21638/11701/spbu02.2019.204
- Tackney J., Jensen A., Kisielinski C., O’Rourke D. Molecular analysis of an ancient Thule population at Nuvuk, Point Barrow, Alaska. American Journal of Physical Anthropology, 2019, vol. 168, iss. 2, pp. 303–317. DOI 10.1002/ajpa.23746
- Tremayne A. H., Rasic J. T. The Denbigh Flint Complex of Northern Alaska. In: Friesen T. Max, Mason Owen K. (eds.). The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic. Oxford, Oxford Uni. Press, 2016, pp. 349–370.