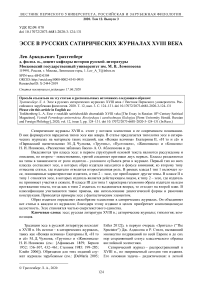Эссе в русских сатирических журналах XVIII века
Автор: Трахтенберг Лев Аркадьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Сатирические журналы XVIII в. стоят у истоков эссеистики в ее современном понимании. В них формируется парадигма типов эссе как жанра. В статье предлагается типология эссе в сатирических журналах на материале таких изданий, как «Всякая всячина» Екатерины II, «И то и сё» и «Парнасский щепетильник» М. Д. Чулкова, «Трутень», «Пустомеля», «Живописец» и «Кошелек» Н. И. Новикова, «Рассказчик забавных басен» А. О. Аблесимова и др. Выделяются три класса эссе: в первом структурной основой текста являются рассуждение и описание, во втором - повествование, третий соединяет признаки двух первых. Классы разделяются на типы в зависимости от роли издателя - условного субъекта речи в журнале. Первый тип во всех классах составляют эссе, в которых образ издателя находится в фокусе внимания; ко второму типу отнесены статьи, где издателю отводится второстепенная роль. В рамках класса I тип 1 включает эссе, посвященные характеристике издателя, а тип 2 - эссе, где преобладают другие темы. В классе II к типу 1 относятся эссе, в которых издатель является действующим лицом, к типу 2 - эссе, где издатель не принимает участия в сюжете. В классе III для типа 1 характерна гегемония образа издателя на всем протяжении текста, тогда как в типе 2 издатель то выдвигается вперед, то отходит на второй план. В классификации учитываются такие приемы, как использование диалогической формы и рамочная конструкция. Приводятся примеры эссе с фантастическим элементом. Образ издателя определяет своеобразие эссеистики в сатирических журналах. Он объединяет все статьи в каждом из журналов; благодаря этому издание в целом приобретает композиционную целостность. Эссе становятся частью сверхтекстового единства.
Эссе, русская литература XVIII в., сатирические журналы, типология, композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147229701
IDR: 147229701 | УДК: 82.09: | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-3-124-131
Текст научной статьи Эссе в русских сатирических журналах XVIII века
Традиции эссе в русской литературе восходят к XVIII в. Их истоки – в сатирических журналах, таких как «Всякая всячина» Екатерины II, «И то и сё» М. Д. Чулкова, «Трутень» и «Живописец» Н. И. Новикова (см.: [Афанасьев 1859; Берков 1952: 156–307, 432–461; Стенник 1985: 199–285; Клейн 2006]). Образцами для этих изданий служат журналы зарубежные (см.: [DeMaria 2005;
Ertler 2012]), в первую очередь «Зритель» (“The Spectator”) Дж. Аддисона и Р. Стиля, вызвавший множество подражаний по всей Европе и до сих пор сохраняющий статус классического образца английской эссеистики.
Сатирический журнал – распространенный в XVIII в., но непривычный сегодня тип издания. Его основная задача – дидактическая: в легкой
для восприятия форме он дает читателям нравственные уроки, проповедуя добродетель и обличая порок.
Жанр эссе характеризуется композиционной свободой (см.: [Encyclopedia of the Essay 1997: xxx]). Он допускает и повествование, и описание, и рассуждение. Благодаря разнообразию структур и стилей эссе смыкается с разными жанрами художественной, философской и научной прозы, от трактата и проповеди до повести и новеллы. Разные типы речи в эссе очень часто совмещаются, что придает ему композиционную гибкость и содержательное разнообразие.
Конструктивная и смысловая доминанта эссе – образ автора, применительно к журналам – издателя. Его специфику в сатирической журналистике XVIII в. определяет осознанная условность. Издатель журнала – литературный образ; это маска, под которой реальный автор скрывает свое лицо.
Будучи центральным жанром сатирических журналов, эссе принимают разнообразные композиционные формы. Задача данной работы – представить типологию этих форм.
Прежде всего, их можно разделить на три класса. В основе первого – описание и рассуждение; в основе второго – повествование. Третий класс соединяет приемы двух первых: используются и повествование, и описание, и рассуждение.
В рамках первого класса можно выделить два типа. В одном из них основной предмет изображения – фигура издателя, в другом – иные образы.
Первый тип дает меньше возможностей для реализации основной функции сатирических журналов – дидактической. Поэтому в таких журналах, как «Всякая всячина» и «Трутень», он используется относительно редко. Во «Всякой всячине» эссе, содержащие психологическую характеристику издателей (по образцу «Зрителя» Аддисона и Стиля этот журнал издается от имени «общества», которое составляют несколько персонажей), помещены в первых номерах [Всякая всячина 1769: № 1, ненум. стр. («Ко читателю»); № 2, 1–3] (эта последняя статья, как и многие во «Всякой всячине», – перевод из «Зрителя», см.: [Солнцев 1892: 135]); [Всякая всячина 1769: № 2, 4–5; № 4, 23–24]1. Существенно позднее публикуются статьи, в которых описывается внешность издателей [Барышок Всякия всячины 1770: № 59, 460–461, 462–464]2. В «Трутне» к типу эссе-автохарактеристики относится «Предисловие» [Трутень 1769: № 1, 3–8].
Есть, однако, журнал, где тип эссе, в котором издатель говорит прежде всего о себе, выдвигается на первый план: это «И то и сё» (см.: [И то и сё 1769: № 1, 3–8; № 3, 1–8; № 4, 1–2] и др.). Дидактический элемент здесь редуцируется, уступая место рекреативному. Речь издателя отмечена чертами комического сказа.
Основное содержание эссе второго типа составляют нравоучительные рассуждения и описания персонажей, представляющих обычные для дидактической литературы XVIII в. типажи. Композиционное оформление таких эссе может реализовывать разные схемы.
Основная модель – эссе в форме ряда сентенций, развивающих основную мысль. Сентенции могут быть оформлены как констатация факта либо как предписание или совет в изъявительном или повелительном наклонении. Последовательность сентенций разного типа вариативна: иногда статья открывается описательной частью и завершается инструктивной [Всякая всячина 1769: № 26, 195–197], иногда начинается сразу с советов [там же: № 26, 197–200] (обе статьи – из «Зрителя» Аддисона и Стиля [Солнцев 1892: 137–138]).
Текст может быть организован с помощью антитез, структурирующих ход рассуждения. Так, одна из статей «Всякой всячины», посвященная принципам сатирико-дидактической литературы (также из «Зрителя» [там же: 139]), развертывает антитезу в два параллельных ряда характеристик. Вначале в ней противопоставляются два типа читателей: одни – «веселые», которые ждут от литературы развлечения, другие – «степенные». В дальнейшем на протяжении статьи к этой антитезе издатель возвращается трижды, рассуждая о том, что он должен, дабы добиться дидактической цели, привлечь внимание и тех и других [Всякая всячина 1769: № 42, 327–328]. Другая статья построена как набор антитез, объединяющих характеристики разных по возрасту и роду занятий людей [там же: № 44, 339–341].
В некоторых эссе используется прием внутреннего диалога. Этот прием выступает в двух разновидностях. Одна из них – диалог с самим собой: издатель задает вопросы и отвечает на них от своего лица, точка зрения в вопросах и ответах одна и та же. Другая – внедрение в речь издателя чужой ему точки зрения: он говорит то от своего лица, то от лица другого – сатирически изображаемого персонажа.
Условная диалогизация, где форма диалога – лишь риторический прием, раскрывающий одну и ту же точку зрения, реализована в одной из статей «Всякой всячины», адресованной юношам-дворянам [там же: № 20, 147–150]. Начальная часть текста – обращенный к ним монолог, прерванный в середине двумя риторическими вопросами, которые издатель адресует самому себе. Далее следует диалогическая часть, где издатель формулирует вопросы и сам дает ответы: «Вам часто скучно? Упражненному человеку недосуг скучать» [Всякая всячина 1769: № 20, 149]. Третья часть статьи – возвращение к монологической форме нравоучительных правил.
Примером второй разновидности диалогиза-ции, где сталкиваются разные точки зрения, может послужить эссе «Приняв название живописца…» из журнала Н. И. Новикова «Живописец». Основная тема статьи – просвещение. Речь издателя перемежается репликами, а затем и пространными монологами от лица сатирических персонажей – противников просвещения, реализующими принцип авторской иронии: читатель понимает, что выраженные в них представления о мире и обществе неверны [Живописец 1772: № 3–4, 17–32].
Обе формы диалогизации использованы в эссе «Автор к самому себе», помещенном в журнале Н. И. Новикова «Живописец». Диалог переходит в монолог, содержание которого составляет ряд сатирических портретов, и возобновляется в конце статьи. Монологическая часть структурируется риторическими обращениями автора к себе и, в свою очередь, включает слова персонажей, введенные на правах прямой речи [там же: № 2, 9–16].
Признаки первого и второго типов соединяют эссе в журнале Н. И. Новикова «Пустомеля». Темы трудности писательского труда и положения современной литературы раскрываются и в рассуждениях общего характера, и в комическом изображении как самого издателя, так и других авторов (иногда – с признаками сатиры «на лицо», подсказывающей читателю, кто является прототипом персонажа). Используются приемы диалогизации – обращения издателя к читателю, а в первом эссе – и к самому себе. В состав вступительного эссе входит фантастическая картина переустройства Парнаса, ретроспективно мотивируемая сном издателя [Пустомеля 1858: 9–27, 88–97].
Второй класс эссе – на повествовательной основе, как и первый, можно разделить на два типа. Первый тип составляют статьи, где издатель является участником действия, второй – те, где издатель выступает лишь как рассказчик: он не принимает участия в событиях, о которых говорит, и не присутствует при них.
В свою очередь, первый тип можно подразделить на три вида в зависимости от того, насколько активная роль в действии принадлежит издателю. Первый вид составляют эссе, в которых издатель – основной участник событий. Ко вто- рому виду можно отнести статьи, где издатель играет второстепенную роль: его участие в сюжете имеет значение для развития действия, но основной предмет интереса – другие персонажи. Наконец, в третьем виде сюжет с участием издателя выполняет лишь функцию рамки: основное содержание эссе – изображение других персонажей, издатель не оказывает существенного влияния на их суждения или поступки.
Примером статьи первого вида, где издатель становится основным действующим лицом, может служить нравоучительный рассказ, помещенный в № 3 «Всякой всячины» [Всякая всячина 1769: № 3, 9–12]. Его главный герой – один из членов «общества», издающего журнал. Он отправляется в путешествие, где предается веселью; лишь благодаря советам «двух честных и ученых людей» [там же: 11] ему удается осознать свою неправоту и встать на путь исправления.
Издатель может становиться участником фантастического сюжета, в котором также действуют мифологические персонажи. Так, к этому приему прибегает М. Д. Чулков во втором номере журнала «И то и сё». Издатель видит во сне сатира, который ведет его на гору, обсаженную виноградом; сатир ударяет его виноградной кистью по лицу, что символизирует инициацию – приобщение к творчеству [И то и сё 1769: № 2, 1–3]. Вступительные аллегорические сцены представлены и в двух более поздних журналах – «Что-нибудь» В. В. Лазаревича [Что-нибудь 1782: № 1, 3–8] и «Что-нибудь от безделья на досуге» Н. П. Осипова [Осипов 1800: 3–6].
Второй вид составляют эссе, в которых издатель выступает как периферийное действующее лицо. Его участие может инициировать развитие действия. Сюжетное взаимодействие издателя с другими персонажами позволяет им проявить себя.
Например, в статье «Привычка есть второе естество», помещенной во «Всякой всячине», издатель рассказывает о визите к своей семидесятилетней тетке – «барыне». Она живет в тесноте, темноте и беспорядке. Вместе с ней в комнате, кроме двух ее внучек – девушек на выданье, множество дворовых и приживалок; свободного места нет даже чтобы пройти, гость спотыкается, падает, роняет стол с закусками на кровать тетки, после чего та, лишившись терпения, требует плетей, и тогда гость, не узнав, кого будут наказывать, спешно удаляется. Участие издателя как персонажа позволяет развернуть описание в сюжет, т. е. придать динамизм статической по своей сути картине. Ряд подробностей раскрывается пред глазами читателей по мере того, как они попадают в поле зрения издателя, а его поведе- ние вызывает у других участников сцены эмоциональную реакцию, что позволяет дать им и речевую характеристику [Всякая всячина 1769: № 10, 69–72].
В другой статье «Всякой всячины» выведен бесчестный дворянин, который жестоко наказывает своих крепостных. Изображение этого персонажа мотивируется тем, что издатель, купив дом в городе, оказывается его соседом. С точки зрения издателя показаны двор и дом соседа, дан его портрет. Он также проявляет себя в диалоге с издателем [Всякая всячина 1769: № 13, 89–95].
Подобный прием использован и в журнале А. О. Аблесимова «Рассказчик забавных басен» В одной из статей изображен диалог издателя с заимодавцем, которому тот должен денег. Заимодавец советует издателю забыть о чести, так как иначе он навсегда останется бедняком [Рассказчик забавных басен 1781: № 10, 73–76].
К третьему виду относятся эссе, где издатель становится участником или только слушателем диалога других персонажей (иногда – монолога или отдельных реплик), чьи суждения он передает, либо свидетелем сцены, которую описывает.
Например, в одной из статей «Всякой всячины» предметом обсуждения «общества», от имени которого издается журнал, становятся несбыточные проекты, составленные разорившимися купцами и обедневшим дворянином, растратившим богатство отца. Суждения о причинах разорения высказывает не издатель, а другие члены «общества» [Всякая всячина 1769: № 33, 249– 253]. В других статьях того же журнала издатель становится свидетелем бесед о вреде злословия и о производстве в чины по заслугам. Основными участниками этих бесед становятся пожилые люди, которые играют роль резонеров [там же: № 44, 343–344; № 49, 381–384].
Одна из статей в журнале Н. И. Новикова «Кошелек» открывается рассказом о «дружеской беседе», где обсуждается вопрос о вреде галлицизмов. Диалогическая форма изложения в этой статье не используется: формулируется общее мнение всех участников беседы о необходимости очищать русский язык, отыскивая исконные слова или изобретая новые; статью продолжает рассуждение издателя на эту тему [Кошелек 1858: 13–19].
В рамку эпизода с участием издателя иногда помещается даже фантастическая сцена – впрочем, в соответствии с принципами эпохи Просвещения фантастика оказывается мнимой, получая рациональное объяснение. Например, издатель встречает незнакомого человека, которому в кваканье лягушек чудится разговор; в конце статьи выясняется, что этот человек лишился рассудка. Содержание статьи сатирическое: она направлена против тщеславия [Всякая всячина 1769: № 27, 203–207].
Эссе «Английская прогулка» из «Живописца» начинается с рассказа о встрече издателя с почтенным и добродетельным человеком. Рассказ служит рамкой для монолога этого персонажа, занимающего большую часть статьи [Живописец 1772: № 13, 97–102].
Сходным образом, но несколько сложнее построена статья «Дядюшка мой человек разумный есть…» во «Всякой всячине». Сначала от лица издателя дается характеристика дяди, а затем сцена встречи персонажей позволяет ввести монолог дяди дидактического содержания [Всякая всячина 1769: № 29, 220–224].
Статья «Всякой всячины» «Брат мой есть человек скромный и молчаливый…» также начинается с характеристики персонажа, но следующая затем сюжетная часть разработана несколько подробнее, чем в предыдущем случае: издатель с братом идут крестным ходом и брат обращает внимание на недолжное поведение окружающих. Здесь речь персонажа, чье суждение выражает авторскую позицию, разбита на фрагменты, каждый из которых служит реакцией на увиденную им сцену. Описания этих сцен даются от лица издателя, за ними следуют оценки от лица брата [там же: № 34, 257–259].
В ряде эссе основная функция издателя – наблюдение. Так, в статьях, помещенных в № 43– 44 журнала «И то и сё», издатель присутствует на свадьбе одного своего знакомого и на крестинах в семье другого. Как гость, он играет лишь периферийную роль в обрядовом действе. Участие издателя мотивирует описание традиционных обрядов [И то и сё 1769: № 43, 1–8; № 44, 1–7].
Сюжетная канва эссе позволяет ввести не только один, но и несколько эпизодов. Так, в № 34 журнала «И то и сё» издатель рассказывает о своей прогулке по городу. По пути он видит несколько сцен: похороны, на которых вдова выглядит веселой, так как очевидно влюблена в молодого офицера; встречу богато одетого щеголя с просто одетым человеком, который, однако, выходит из столкновения победителем; прогулку женщины с любовником на глазах у мужа и т. д. Большинство сцен в статье завершается нравоучительными выводами издателя [И то и сё 1769: № 34, 1–8].
Второй тип образуют повествовательные статьи, в которых издатель не принимает никакого участия в действии. Он выступает как субъект высказанной в тексте точки зрения; его присутствие эксплицируется при помощи рамочных конструкций.
Такова, например, одна из статей «Всякой всячины», представляющая собой сатирический рассказ о вдове, которая принимает ухаживания нескольких поклонников [Всякая всячина 1769: № 46, 356–359]. К подобному приему прибегает и А. О. Аблесимов в журнале «Рассказчик забавных басен» [Рассказчик забавных басен 1781: № 13, 97–100]. В одной из статей этого журнала вводится дополнительная повествовательная инстанция: в обрамлении слов издателя дается рассказ другого персонажа от первого лица [там же: 100–104]. В журнале «Что-нибудь» помещена «Быль» – рассказ о девушке, против воли выданной замуж и затем бежавшей с возлюбленным; комментарий от лица издателя, выполняющий функцию рамки, следует после сюжетной части [Что-нибудь 1782: № 2, 1–4].
Описание в рамках эссе может вводиться не как услышанное издателем, а как прочитанное. В одной из статей «Всякой всячины» издатель пересказывает описание путешествия, которое он якобы прочел в учрежденной незадолго до основания журнала публичной библиотеке. В этой книге описываются вымышленные страны [Всякая всячина 1769: № 41, 315–320]. Таким образом, фантастика (в аллегорической функции) мотивируется отдаленностью описываемых земель, как в «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта.
Иногда рассказ в эссе вводится в виде воспоминаний издателя. В № 42 журнала «И то и сё» издатель рассказывает о своем знакомом – купеческом сыне, который так и не сумел научиться грамоте; создаются сатирические образы недоросля – неуча и хитрого «мастера», т. е. учителя, наживавшегося за счет его родителей [И то и сё 1769: № 42, 1–6].
К тому же типу можно отнести рамочные конструкции, вводящие распространенную в XVIII в. форму аллегорического сна (см., например: [Всякая всячина 1769: № 44, 337–338; Смесь 1769: № 8, 57–64]).
Третий класс образуют эссе, соединяющие рассуждение, описание и повествование. Здесь комбинируются приемы, характерные для эссе первых двух классов. В рамках этого класса также можно выделить два типа, различающиеся значением образа издателя.
Примером первого типа, где образ издателя на протяжении всего текста остается в фокусе внимания, служит эссе, открывающее журнал М. Д. Чулкова «Парнасский щепетильник». Рассуждение издателя в комическом ключе занимает большую часть текста, обрамляя фантастическую сцену: поскольку стихотворцев очень много, Аполлон решает некоторых из них продавать и поручает это издателю. Издатель участвует в этой сцене как персонаж: он вступает в комический диалог с Аполлоном [Парнасский щепе-тильник 1770: № 1, 3–11].
В качестве примера второго типа, где издатель играет хотя и важную, но не центральную роль в тексте, может послужить статья из № 4 журнала «Смесь». Здесь в рамку, образованную рассуждением и описанием, вставлен повествовательный фрагмент. Статью открывает рассуждение о вреде безделья. Продолжает его рассказ издателя о встрече со знакомым петиметром, т. е. щеголем, которая произошла в церкви. Большую часть эпизода занимает прямая речь петиметра, характеризующая круг его интересов, обычный для этого типажа: волокитство, модные наряды, сплетни. Заключительная часть статьи модифицирует предложенную во вступлении тему: речь идет уже не о безделье как таковом, а о характере модных бездельников – петиметров [Смесь 1769: № 4, 25–28].
Еще один пример – статья, занимающая № 24 журнала «И то и сё». В ней сюжетное вступление с участием издателя мотивирует ввод монолога другого персонажа. Издатель находит старый отцовский кафтан и отправляется к портному-французу его перешивать. За детальным описанием кафтана и комической сценой, где пришедшие к портному люди высмеивают этот давно вышедший из моды костюм, следует беседа издателя с портным, в словах которого и заключено основное содержание статьи – литературно-критическое: в ней характеризуются журналы, выходящие в 1769 г. [И то и сё 1769: № 24, 1–8].
В статье «О подражании» из журнала «Что-нибудь» обращение к теме подражания иностранцам мотивируется словами безымянного персонажа, которые издатель слышит «в одной беседе». Далее следует рассуждение издателя, а в качестве подтверждения его правоты – сюжетный рассказ. Таким образом, между двумя повествовательными фрагментами помещен фрагмент-рассуждение; издатель выступает как субъект речи, а в начальной части – и как периферийное действующее лицо [Что-нибудь 1782: № 2, 4–8].
Из сказанного видно, что русская сатирическая журналистика вырабатывает широкий спектр форм эссе. Их композиционной основой может служить и рассуждение, и описание, и повествование. Если в одних эссе субъект высказывания один – издатель, то другие отличаются сложной субъектной структурой. Используется и промежуточная форма внутреннего диалога. В то время как большинство эссе остаются в рамках поэтики правдоподобия, немало и таких, где действие развертывается в сфере фантастики. Так сатирические журналы закладывают основу эс-сеистики в русской литературе.
Если в перспективе будущего литературы эссе XVIII в. важны прежде всего как образцы малой литературной формы, то в контексте журнала каждое из них воспринимается как часть художественного целого. Субъективное начало – общая жанровая черта эссе, но в рамках сатирического журнала оно приобретает особое значение. Образ издателя – не только выражение субъективности, но и структурная основа журнала, связывающая весь его текст воедино. Сатирический журнал становится сверхтекстовым единством; можно говорить о нем как о целостном литературном произведении.
Журнальные эссе не изолированы друг от друга: в рамках каждого издания они образуют систему. Издатель может выступать и как субъект рассуждения, и как участник действия, переходить из реального пространства в фантастическое: сущностное единство образа сохраняется, поддерживая композиционное единство журнала.
Lomonosov Moscow State University
ResearcherID: X-2444-2019
Submitted 17.06.2020
18th-century satirical magazines laid the foundations of the essay as a genre in the modern sense of the word. They formed a paradigm of essay in its various forms. The paper presents a typology of essays in satirical magazines. There are considered such magazines as Vsyakaya vsyachina (All Sorts of Things) edited by Catherine II, I to i se (This and That) and Parnasskiy shchepetil’nik (The Parnassian Vendor) by Mikhail Chulkov, Truten’ (The Drone), Pustomelya (The Tattler), Zhivopisets (The Painter) and Koshelek (The Purse) by Nikolai Novikov, Rasskazchik zabavnykh basen (The Teller of Amusing Stories) by Aleksandr Ablesimov etc.
Список литературы Эссе в русских сатирических журналах XVIII века
- Афанасьев А. Н. Русские сатирические журналы 1769-1774 годов: эпизод из истории русской литературы прошлого века. М.: Тип. Э. Барф-кнехта и комп., 1859. 282 с.
- Барышок Всякия всячины. 1770 год. [СПб.: Тип. Акад. наук, 1770]. № 53-70. 144 с.
- Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 572 с.
- Всякая всячина. [СПб.: Тип. Акад. наук, 1769]. № 1-52. 408 с.
- Живописец: еженедельное на 1772 год сочинение. СПб.: [Тип. Акад. наук, 1772]. [Ч. 1]. № 126. 207 с.
- И то и сё. [СПб.: Тип. Морск. кад. корпуса, 1769]. № 1-51/52. 448 с.
- Клейн Й. «Немедленное искоренение всех пороков»: о моралистических журналах Екатерины II и Н. И. Новикова // XVIII век. СПб., 2006. Сб. 24. С. 153-165.
- Кошелек: сатирический журнал Н. И. Новикова. 1774 / Изд. А. Афанасьева. М.: Тип. С. Се-ливановского, 1858. 141 с.
- Осипов Н. Что-нибудь от безделья на досуге: еженедельное издание. СПб.: [Тип. Губ. правления], 1800. № 1-26. 416 с.
- Парнасский щепетильник: ежемесячное издание 1770 года. СПб.: [Тип. Морск. кад. корпуса, 1770]. Май-декабрь. 323 с.
- Пустомеля: сатирический журнал. 1770 / Изд. А. Афанасьева. М.: Тип. С. Селивановского, 1858. 112 с.
- Рассказчик забавных басен, служащих к чтению в скучное время или когда кому делать нечего: стихами и прозою. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1781. [Полугодие 1-е]. № 1-26. 208 с.
- Словарь русского языка XVIII века. Л.: Наука, 1984. Вып. 1. 224 с.
- Смесь: новое еженедельное издание. Началось 1769 года, апреля 1 дня. [СПб.: Тип. Акад. наук, 1769]. № 1-40. 320 с.
- Солнцев В. Ф. «Всякая Всячина» и «Спекта-тор» (к истории русской сатирической журналистики XVIII века) // Журнал министерства народного просвещения. 1892. Ч. 279, № 1. С.125-156.
- Стенник Ю. В. Русская сатира XVIII века. Л.: Наука, 1985. 360 с.
- Трутень: еженедельное издание, на 1769 год. СПб.: [Тип. Акад. наук, 1769]. № 1-36. 284 с.
- Что-нибудь: еженедельное издание с маия по ноябрь 1780 года. 2-е изд. СПб.: Тип. Артиллер. и инж. кад. корпуса, 1782. № 1-26. 208 с.
- Encyclopedia of the Essay / еd. by T. Chevalier. London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. 1024 p. doi 10.4324/9780203303689.
- DeMaria R., Jr. The Eighteenth-Century Periodical Essay // The Cambridge History of English Literature, 1660-1780 / еd. by J. Richetti. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 527-548. doi 10.1017/CH0L9780521781442.022.
- Ertler K.-D. Moralische Wochenschriften // Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte. Mainz, 2012. URL: http://www.ieg-ego.eu/ertlerk-2012-de (дата обращения: 17.06.2020).