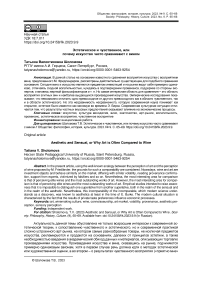Эстетическое и чувственное, или почему искусство часто сравнивают с вином
Автор: Шоломова Т.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на основании известного сравнения восприятия искусства с восприятием вина, предложенного М. Фридлендером, рассмотрены действительно существующие для подобного сравнения основания. Сегодня вино и искусство являются предметом инвестиций и на рынке ведут себя примерно одинаково, отличаясь сходной волатильностью, нуждаясь в подтверждении провенанса, поддержке со стороны экспертов, становясь жертвой фальсификаторов и т. п. Но самая интересная область для сравнения - это область восприятия элитных вин и наиболее выдающихся произведений искусства. Эмпирические исследования показывают, что невозможно отличить одно превосходное от другого превосходного как в области чувственного, так и в области эстетического. Но эта несравнимость несравненного, которую современная наука понимает как открытие, эстетике было известно как минимум во времена Э. Берка. Современная культурная ситуация отличается тем, что результаты частных вкусовых предпочтений оказывают влияние на экономические процессы.
Искусство, культура виноделия, вино, знаточество, арт-рынок, волатильность, провенанс, эстетическое восприятие, чувственное восприятие
Короткий адрес: https://sciup.org/149144065
IDR: 149144065 | УДК: 18:7.011 | DOI: 10.24158/fik.2023.9.9
Текст научной статьи Эстетическое и чувственное, или почему искусство часто сравнивают с вином
,
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg. Russia, ,
или нет), которые социальным обобщениям не подлежат. Именно это неожиданное сближение позволяет под новым углом взглянуть на проблему взаимоотношений эстетического и чувственного и показать, как она может быть решена на конкретном эмпирическом материале.
В работе использован метод сравнительного анализа. Рассмотрены ставшие обычными случаи сопоставления искусства и вина, начиная с известного сравнения М. Фридлендера, получившего дальнейшее развитие в истории искусства (что не будет подробно рассмотрено в данной статье), и заканчивая практическими советами по управлению коллекцией, опубликованными на портале Artinvestment.ru. Проведенное исследование позволяет сделать выводы не только о том, как много общего между эстетическим и чувственным восприятием (главным «общим» оказывается его ненадежность), но и как современный арт-рынок пользуется открывающимися возможностями. Но то, что понимается как открытие в области современной социологии и психологии восприятия, было известно практически на самых первых порах существования классической эстетики. Классическая эстетика исключала зыбкие данные периферийных органов чувств из области своих интересов; неклассическая эстетика второй половины ХХ в. их в область своих интересов включила; а теперь мы можем увидеть, что если это и был прогресс, то весьма относительный.
Область практического применения: результаты, полученные в ходе исследования, могут не только послужить основой для проведения дальнейших научных изысканий в данной области, но также будут использованы в качестве учебных и иллюстративных материалов при преподавании дисциплин направлений подготовки «Эстетика: арт-бизнес» и «Теория и практика эстетического образования» в РГПУ имени А.И. Герцена.
Отправной точкой для данной статьи послужило следующее суждение немецкого искусствоведа и теоретика знаточества М. Фридлендера (1867–1958): «Подобно тому, как знаток вин может по вкусу определить, откуда это вино и когда оно было произведено, так и знаток искусства способен определить автора по непосредственному чувственно-духовному впечатлению. Там он улавливает приятное равновесие, тут – терпкую, волнующую свежесть, там – игру жизненных чувств, тут – пафос, полноту блаженства, героический взлет, – и все это в той тональности, которую ни с чем не перепутаешь. Качество проявляется каждый раз в том, что все те эмоции, которые испытывал художник, исходят и от изображения» (Фридлендер, 2001: 169).
Фридлендера можно понимать или не понимать буквально – он утверждал, что вынужден прибегать к метафорам, поскольку не находит слов для описания механизма работы интуиции (Фридлендер, 1923: 22). Но именно это конкретное сравнение хорошо известно в истории искусства – его комментировал, например, бельгийский теоретик искусства Т. Ленэн, поясняя концепцию произведения как цепочки следов и знаточества как специфической «операционной схемы» распознавания этих следов (хотя и не безупречной) (Lenain, 2011: 240–241).
Основания для сравнения искусства и вина, за исключением образного выражения «искусство виноделия», отсутствуют. Тем не менее, анализируя арт-рынок, вино и искусство сводят вместе часто и помимо Фридлендера, причем нередко по самым неожиданным поводам. Именно эти неожиданные поводы и основания для сравнения будут рассмотрены в данной статье. Вот они:
-
1. Низкая волатильность (рисковое отклонение) – на уровне 25 % – «это означает, что при аналитическом подходе к выбору приобретаемых активов возможность допустить ошибку (получить отрицательную прибыль при перепродаже) составляет один шанс к четырем успешным»1, причем при умелом управлении коллекцией волатильность снижается до 20 % (ниже только у ценных металлов, драгоценных камней и коллекционного алкоголя2. Таким образом, искусство, как и вино, в современном мире является не просто предметом инвестиций, но также и одной из наименее рисковых областей вложения средств, разумеется, при условии предшествующей вложению средств аналитики (о вине как о предмете инвестиций см. (Мельтцер, 2008; Соколин, 2006)).
-
2. Провенанс (история происхождения) важен не только для произведений искусства, но и для коллекционных вин, поскольку и то, и другое подделывают (Provenance research today…, 2020: 36). Провенанс является одним из четырех факторов, влияющих на цену изысканного вина (наряду с качеством, состоянием и редкостью). Мошенничество с вином настолько распространено, что коллекционеры дорого платят за бутылки с доказанным провенансом, чем и воспользовался печально известный Руди Курниаван, фальсифицировавший провенанс, чтобы увеличить стоимость дешевого вина. Фиктивные истории позволили мошеннику продавать бутылки со столовым вином за десятки тысяч долларов. В одном случае Курниаван отправил бутылку на аукцион Christie’s, и в каталоге она описывалась следующим образом: «предполагается, что вино... когда-то находилось в собственности Томаса Джефферсона» (Т. Джефферсон известен
как выдающийся коллекционер вина (Джонсон, 2004: 255–256)), и «это тот редкий случай, когда можно поручиться за подлинность и провенанс». В результате бутылка была продана за $56 000. В 1988 году бизнесмен и коллекционер Уильям И. Кох приобрел бутылку с аналогичной маркировкой за $100 000. Мошенничество Курниавана в конце концов было раскрыто, его арестовали в 2012 г. и приговорили к десяти годам тюрьмы (Provenance research today…, 2020: 36).
-
3. Р. Коннифф, автор «Естественной истории богатых», описывает гораздо менее удачную аферу мошенника Кристофера Рокфеллера (в реальности Кристофа Роканкура), который выдавал себя за мецената – французского потомка Рокфеллеров, ездил на золотистой Mazda-626 и собирался купить работы художника Серран-Пажана на $500 тыс. Серран-Пажан его и разоблачил, обнаружив, что потенциальный покупатель совершенно не разбирается в винах. Художник во время вечеринки перелил дешевое вино в керамический кувшин в какой-то просто евангельской надежде, что все уже пьяны, и никто особо ничего не заметит. «Превосходно, – восторженно воскликнул Рокфеллер, – бордо, да?» (Коннифф, 2006: 249).
-
4. Таким образом, мы уже знаем, что вино обладает практически такой же волатильностью, как искусство; что для успешной продажи коллекционного вина провенанс важен в той же степени, что и для произведения искусства; теоретически, мошенника можно поймать на его неумении разбираться в винах (точно также, как мошенник в области искусства волей-неволей обязан разбираться в искусстве). Но самое интересное, с точки зрения возможности объяснить специфику процессов сравнения чувственного и эстетического восприятия (восприятие искусства с восприятием вина), принадлежит американскому социологу А.-Л. Барабаши, раскрывшему природу этой специфики.
Тут нельзя не обратить внимание, что коллекционеры вин платят в большой степени за условность, поскольку коллекционные бутылки открываются не так часто. Из книги Мельтцера можно понять, что тех, кто приобретает коллекционное вино в первую очередь для того, чтобы его пить, как будто бы даже и осуждают – но даже эти решительные люди открывают такое дорогое вино либо по особому поводу, либо для специальных гостей (Мельтцер, 2008: 174). Документы, сопровождающие бутылку, свидетельствуют о ее содержимом больше, чем само это содержимое (по крайней мере, в момент покупки). В области торговли искусством мы наблюдаем примерно то же самое: как минимум с 1980-х гг. известно, что на арт-рынке провенанс важнее качества произведения. Чем и воспользовался в свое время мошенник Джон Дрю, дорого продавший грубую подделку рисунка А. Джакометти благодаря сфальсифицированным документам. У нас в стране афера Дрю не так широко известна, но для европейского рынка это значительная фигура, поскольку Дрю первый догадался, что важно не столько хорошо подделать чью-то манеру письма, чтобы выгодно продать фальсификат, сколько предъявить документы, подтверждающие подлинность сфальсифицированного экземпляра. Он начал подменять документы в архивах, библиотеках и музейных хранилищах, и далеко не все его подмены на сегодняшний день, как считается, обнаружены и, стало быть, причиненный им ущерб до сих пор не компенсирован (Salisbury, Sujo, 2014).
Ехидный Коннифф завершает повествование так: «Его [Кристофа Роканкура] разыскивали по обвинениям в мошенничестве, подделке документов, кражах, бегстве от правосудия после выхода под залог, попытке изнасилования и вооруженном нападении. Мораль этой истории проста: разбирайтесь в винах. Всё остальное простительно» (Коннифф, 2006: 250). Хотя из этой истории, возможно, следовало бы извлечь другую мораль: молчи! Это гораздо безопасней. Потому хотя бы, что и сам разоблачитель, возможно, не отличил бы по вкусу одно вино от другого – но в данном случае он точно знал, что именно налито в кувшин.
Итак, Барабаши рассказывает историю американского профессора, ставшего виноделом, Бена Ходжсона, который никак не мог обнаружить логики в провалах и победах производимых им вин на конкурсах виноделия. В конце концов Ходжсон сам стал судьей, но это не добавило ему понимания, почему одно и то же вино может получать противоположные оценки. Тогда он разработал и провел серию экспериментов, которые показали, что при слепой дегустации последовательности в оценках судей практически никакой нет – всего в 18 % случаев судьи ставили одному и тому же вину сходную оценку. Логика обнаруживалась только по одному поводу: если кому-то вино не нравилось сразу, при первой пробе, то оно и потом продолжало не нравится. Во всех остальных случаях участники эксперимента меняли мнение (Барабаши, 2020: 87–89; 92–95). Л. Барабаши назвал это «ограниченностью результативности», объяснив происходящее так: «Легко отличить высокое от низкого, быстрое от медленного, а посредственное пойло от гран-крю, но гораздо сложнее отличить высокое от высокого, быстрое от быстрого и гран-крю от гран-крю» (Барабаши, 2020: 90). Человеческие способности распределяются как бы по параболе – есть минимальные, есть средние (которых большинство), есть высшие. На вершине этой параболы, в области высших достижений, мы наталкиваемся на границы результативности, из которых не выскочить, и это связано с нашей физической природой (Барабаши, 2020: 90–91): как бы быстро вы ни бежали, как бы великолепно вы ни играли на рояле, рядом с вами обязательно будут еще несколько человек, отличающихся сходными талантами и успехами (Барабаши, 2020: 92). Так сказать, если существует объективное ограничение скорости пробега стометровки, то, вероятно, существует и объективное ограничение способности играть на рояле, и способности воспринимать оттенки вкуса вина. И точно также, видимо, существуют пределы художественной и эстетической одаренности: рядом с гениальным художником всегда есть еще кто-то не менее гениальный; а современниками видного знатока искусства М. Фридлендера были (как минимум) Б. Беренсон и В. фон Боде.
То есть все вышеизложенное касается как воспринимающих субъектов, так и котировщиков, и даже творцов. В мире искусства (и на арт-рынке) мы получаем в итоге примерно такую же картину, как на конкурсе виноделов: сложно принять решение, кто или что кого или что превосходит, и внятно объяснить, почему это именно так. Причина этого – в том, что в области, где царит вынужденная условность оценки, невозможно сказать, кто лучше – например, Матисс или Пикассо. Можно определить только, кто дороже, но и это не навсегда, а до следующего аукциона. То есть искусство, как и виноделие, является одной из таких сфер. Вывод Барабаши: «никто не может назначить цену шедеврам или определить их стоимость, просто посмотрев на сами работы. Чтобы определить, что именно попадет в музей, и какую цену мы готовы будем заплатить за произведения искусства, нужно обратиться к невидимым сетям кураторов, историков искусства, галеристов, дилеров, агентов, аукционных домов и коллекционеров. Такие сети не только решают, каким работам место в музеях, но и показывают, к каким из них будут выстраиваться очереди» (Барабаши, 2020: 67). Строго говоря, Барабаши предлагает еще одно обоснование институциональной теории искусства, только базирующееся на выводах науки социологии.
Доводы Барабаши об условности распределения мест среди вин на основании экспертных суждений подкрепляют свежие новости из мира виноделов: столовое вино за $2,70 победило на международном конкурсе, причем пошутить решил «лучший сомелье Бельгии» Эрик Бошман и команда издания “On n’est pas des pigeons”. Они взяли самое дешевое вино из супермаркета, которое смогли найти, и зарегистрировали его на конкурсе. Бутылку замаскировали под продукт премиум-класса, создав более привлекательную этикетку и сочинив историю вина. Эксперты оценили «богатый вкус с чистыми молодыми ароматами»1 (Полотнюк, 2023). Но показательно, что на предварительную лабораторную экспертизу шутники отправили все-таки другое, более качественное вино. Эта история хорошо иллюстрирует, что контекст (в данном случае – умелая презентация) влияет на результат восприятия больше, чем качество воспринимаемого продукта (а подтверждают ее данные других эмпирических исследований: дешевое вино кажется нам более вкусным, если сказать, что оно дорогое2 (Плахова, 2023).
При этом, конечно же, следует обратить внимание, что эстетика с самого начала своего существования об этом знала. И. Кант утверждал, что суждение о приятном ограничено личностью выносящего суждение (Кант, 1994: 49): нечто «приятно мне», и именно поэтому в области приятного (непосредственно воздействующего на органы чувств) о вкусах действительно не спорят. Нет смысла проводить конкурсы виноделия из-за невозможности найти общее основание для вынесения суждения (общих оснований и в области эстетического нет, но там возможно хотя бы согласие по поводу того, что считать прекрасным).
Но интересно, что практическая реакция на результаты подобных конкурсов (победа значительно увеличивает стоимость вина) воспринимается как некий прогресс, как расширение области эстетического – а потом возникает необходимость путем эмпирических исследований устанавливать, что результат не объективен, и среди десятка великолепных вин одно ничуть не великолепнее девяти остальных. Похоже, что в области культуры и эстетики сегодня совершается некое насилие над особенностями человеческой природы: чувственное восприятие (причем данные, получаемые самым несамостоятельным чувством – вкусом) наделяется возможностями эстетического анализа (тоже в большой степени субъективного), и сделанные в данной ненадежной области выводы предлагается рассматривать как объективную, практически неоспоримую истину, влияющую на процессы ценообразования на арт-рынке. Таким образом, следует констатировать тот факт, что человеческая мысль описала полный круг и вновь пришла практически к заключению Э. Бёрка, писавшего, что определенные свойства вещей «очень легко отличить, если разница довольно значительна; но, когда она мала, делать это трудно из-за отсутствия каких-либо общих мер для их измерения, которые, возможно, вообще никогда не будут открыты. Если в этих деликатных случаях предположить равную остроту чувства, преимущество будет на стороне тех, кто уделял этим вещам больше внимания и привык к ним. <…> Но, несмотря на это отсутствие общей меры для решения многих споров, относящихся к внешним чувствам и к представляющему их воображению, мы обнаруживаем, что принципы одинаковы у всех и что разногласия не возникают до тех пор, пока мы не приступаем к рассмотрению превосходства одной вещи над другой или различия между ними, что приводит нас в сферу рассудочной способности» (Берк, 1979: 58).
Список литературы Эстетическое и чувственное, или почему искусство часто сравнивают с вином
- Барабаши А.-Л. Формула: универсальные законы успеха: что наука говорит о причинах успеха и неудач / пер. с англ. З. Мамедьярова. М., 2020. 327 с.
- Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / пер. с англ. Е.С. Лагутиной; общ. ред., вступ. статья и коммент. Б. В. Мееровского. М., 1979. 237 с.
- Джонсон Х. История вина / пер. с англ. М., 2004. 480 с.
- Кант И. Критика способности суждения // Cочинения: в 8 т. / под общ. ред. проф. А.В. Гулыги. М., 1994. Т. 5. 414 с.
- Конифф Р. Естественная история богатых: полевые исследования / пер. с англ. М. Леоновича. Екатеринбург, 2006. 457 с.
- Мельтцер П.А. Ключ к винному погребу. Составление винных коллекций. Инвестиции в вино / пер. с англ. М., 2008. 256 с.
- Соколин У. Текучие активы: вино как объект для инвестиций – выгодных и приятных / пер. с англ. М. Васянина. М., 2006. 191 с.
- Фридлендер М. Знаток искусства / пер. В. Блоха; под ред. Б. Виппера. М., 1923. 43 с.
- Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / пер. с нем. М. Ю. Кореневой. СПб., 2001. 205 с.
- Lenain T. Art Forgery: The History of a Modern Obsession. Londers, 2011. 384 p.
- Provenance research today: Principles, practice, problems / ed. by Arthur Tompkins. London, 2020. 225 p.
- Salisbury L., Sujo A. Provenance: How a Con Man and a Forger Rewrote the History of Modern Art. New York, 2014. [Without Pagination].