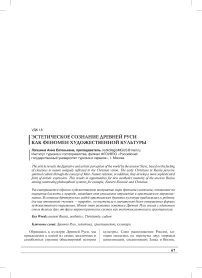Эстетическое сознание Древней Руси как феномен художественной культуры
Автор: Лапшина Анна Евгеньевна
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Проблемы культурологии
Статья в выпуске: 2 т.4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается образно-художественное восприятие мира древними славянами, основанное на ощущении близости к природе, нашедшее свое уникальное отражение в христианском миропони- мании. В сознании древнерусских людей христианская духовная культура приблизилась к родному для них отношению «человек - природа», но выступила в значительно более совершенных формах художественного выражения. Новый этап развития эстетики Древней Руси связан с единением столь далеких друг от друга мировоззренческих систем как восточнославянская и христианская.
Древняя русь, эстетика, христианство, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140209940
IDR: 140209940 | УДК: 18
Текст научной статьи Эстетическое сознание Древней Руси как феномен художественной культуры
Обращаясь к культуре Древней Руси, мы прикасаемся к одной из самых загадочных и самобытных страниц общемировой истории культуры. Само расположение России, которая оказалась на перепутье двух мировых цивилизаций, соединивших Запад и Восток, своеобразие ее природных условий (огромные территории, равнинность страны и обилие речных путей, плодородные почвы и леса) предопределили зарождение того, что сегодня мы называем загадочным феноменом древнерусской культуры. «Есть соответствие между необъятностью, безграничностью, бесконечностью русской земли и русской души, – писал Н.А. Бердяев, – между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безграничность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине... Чем больше погружаешься в глубь веков, «вслушиваешься» в историю, тем яснее начинаешь понимать удивительное действие этого неписаного закона «соответствия земли и души»» [1. С. 78].
История русской культуры начинается с ключевого социокультурного события, перевернувшего жизнь древних славян, изменившего их мировоззрение и поведение, включившего Древнюю Русь в поток мировой истории, – с Крещения Руси. Именно с этого момента для русской культуры начинается «осевое время»: события обретают свой неповторимый смысл; ход времени получает в сознании людей определенную направленность, даже целеустремленность и начинает рефлек-сироваться как история; бытие сознается человеком в его противоречиях и антиномиях, в движении; усиливается роль рациональности и рационального преломления опыта – появляется философское мышление; религия наполняется этическим пафосом и смыслом. Так характеризует понятие «осевого времени» К. Ясперс, обосновавший культурологический подход к осмыслению мировой истории. Его концепция получает свое подтверждение на всем материале древнерусской культуры, изучение которого дает возможность яснее понять и некий самобытный феномен, и всю отечественную культуру в целом до нашего времени включительно. Основное ядро русской культуры сложилось в домонгольский период (X–XIII вв.), а свое наиболее адекватное выражение оно нашло в художественной, а точнее — в художественно-эстетической среде [3. С. 8].
Знаменателен рассказ летописи о первом вхождении наших предков в византийский храм, где послы князя Владимира, Крестителя Руси, были пленены дивной красотой увиденного. Познание, как утверждал Аристотель, начинается с удивления. С удивления красоте Божественного творения начинается познание религии древними славянами. В одной из своих работ Владимир Соловьев, исследуя вопрос об этических и эстетических способах «оправдания» той или иной религии, сделал следующее замечание: «...если бы красота греческого богослужения в Софийском соборе не произвела такого сильного впечатления на послов киевского князя Владимира, то, вероятно, Россия не была бы теперь православною» [9. С.102]. Конечно, контекст не позволяет сделать вывод о безусловности этого утверждения, но тот факт, что русский летописец действительно указал в качестве основного критерия истинности веры красоту ее культа [2. С. 154], никак нельзя оставлять без внимания. Древняя Русь в ходе формирования собственной культуры перенимала у Византии четко сформированное миросозерцание и связанные с ним религиозные и эстетические категории. Характерной чертой этого процесса было то, что «общественное сознание Киевской Руси, открыв бытие духовной сферы, восприняло ее в первую очередь эстетически, усмотрело в ней высшую красоту, то есть обрело новый эстетический идеал» [4. С. 73].
Семя упало на подготовленную почву. В настоящее время уже никто не придерживается упрощенного представления о том, что наши предки в дохристианскую эпоху жили в состоянии дикости. Современные исследователи обратили внимание на высокий уровень образно-поэтического мировосприятия в Древней Руси. Несомненно, что в языческой, дохристианской культуре славянских племен присутствовало развитое художественное начало. Это образно-художественное восприятие мира оказалось чрезвычайно близким самому духу византийской культуры.
Известный исследователь истории эстетики В.В. Бычков утверждал, что «именно эстетическое сознание является тем цементирующим материалом, теми скрепами, а если хотите — той плазмой, благодаря которой и возникает целостность художественной культуры, да, пожалуй, и Культуры в целом… Именно эстетическое сознание, достаточно целостное и самобытное для каждого этапа истории культуры, того или иного региона, этноса и т.п., находя наиболее адекватное выражение в феноменах разных искусств, внешне часто имеющих мало общего, объединяет их в целостный организм Культуры, выявляя ее сущностные основания» [6. С. 8].
Сохранившиеся памятники восточнославянской художественной культуры первого тысячелетия свидетельствуют, что сущность эстетического сознания древних славян во многом сводилась к комплексу положительных эмоций от ощущения человеком своей близости к природе. Принятие Русью христианства не могло поколебать глубинной архетипической связи славянской духовной культуры «человек — природа», но существенно одухотворило ее, подняв на новый уровень. Это дало новый творческий импульс развитию эстетического сознания. С другой стороны, христианская оппозиция «человек — Бог» не была сразу воспринята на Руси во всей ее византийской утонченности и глубине.
При первых контактах с христианской духовной культурой древнерусские люди оказались наиболее чувствительны именно к конкретным художественно-эстетическим реализациям этой оппозиции. В их сознании она приблизилась к родному для них отношению «человек — природа», но выступила в значительно более совершенных формах художественного выражения, что и предоставило реальные возможности новому этапу развития художественной культуры на основе единения, казалось бы, столь далеких друг от друга мировоззренческих систем, как восточнославянская и христианская.
Не уставая восхищаться красотой природного мира, русич усматривает теперь в нем выражение высшей творческой мудрости и, радуясь красоте творения, славит Творца. «Великий еси, Господи, и чюдна дела Твоя…, – восклицает Владимир Мономах, – како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, …зверье розноличнии, и птицы и рыбы украшено Твоим промыслом, Господи!» [8. С. 396, 398].
С принятием Крещения человек Древней Руси начинал осознавать себя целью и вершиной творения, образом самого Творца, радовался открытию нового мира. Радостным мироощущением были наполнены вся его жизнь и творчество, им одухотворено его эстетическое сознание; оно выступало, наконец, важным стимулом взлета культуры в Киевской Руси [12. С. 16], где первую страницу в истории художественной культуры открывает храмовое искусство.
Храм давал человеку Древней Руси в сфере нравственно-духовной жизни все то, чего ему не хватало в жизни реальной, тяжелой и часто беспросветной. Для русича посещение храма являлось, прежде всего, праздником. Вся атмосфера церковного богослужения была ориентирована на создание праздничного настроения. Храмовая декорация (фрески, иконы, мозаика) представляет собой богословскую программу и собственно образ мира, который включает историю (Священную историю, историю Церкви), метаисторию (Сотворение мира и конец), символически передает устройство и иерархию мира, несет благове-ствование, отражает историю спасения Словом. Направленность искусства на умонепостигаемого Бога привела к повышению уровня абстрагирования художественного языка, к художественному символизму. Храмовая живопись стала окном в мир иной, отсюда ее особый язык, где каждый знак, символ передает понятия духовной реальности.
Кроме того, в древнерусской живописи воплотилось свое, особое единство нового для восточных славян христианского богословия и старых языческих воззрений на мир; утонченной изобразительной традиции Византии, наследницы античной культуры, и художественных вкусов молодых славянских народов. Высокоразвитое художественносимволическое мышление восточных славян требовало системы фиксации основной символической структуры на уровне эстетического сознания. Роль такого фиксатора выполнял канон. Каноничность – один из главных принципов древнерусского эстетического сознания и художественного мышления. На семантическом уровне канон явился основой формализуемой информации художественного символа, а на структурном – его конструктивной основой. Однако канон не притуплял восприятие молящегося одним и тем же клише, но постоянно возбуждал нюансами малозаметных отклонений от некой идеальной схемы всматриваться во вроде бы знакомый образ, проникая в его духовные глубины. Художественно-эстетический эффект произведений канонического искусства закреплял визуализированные «идеи» (в платоновском смысле), «внутренние эйдосы» (в плотиновском смысле) архетипических схем изображаемых персонажей, восходящих к византийскому прототипу.
В системе христианского миропонимания на канон возлагались задачи выражения на феноменальном уровне практически невыразимого духовного мира. И наши предки достигли в этом направлении удивительного мастерства, подтверждая, что христианство на Руси было воспринято прежде всего и глубже всего на уровне художественно-эстетического сознания. И именно на этом уровне Древняя Русь наиболее активно развивала свою духовную культуру, которая была источником «духовного» наслаждения, восторга, радости, сладостного переживания [5. С. 296, 300]. Причем для религиозного сознания христиан подобные переживания непосредственно связаны с «прикосновением» к Вечности – в молитве и в богослужении.
Павел Флоренский назвал православное богослужение синтезом искусств; здесь все: архитектура, живопись, пение, проповедь, театральность действа, – работает на создание единого образа иного мира, преображенного, в котором царствует Духовный Абсолют. Отсюда следует еще одна особенность художественной культуры Руси – системность. Церковный культ представляет собою достаточно целостную систему, основывающуюся на своеобразном соединении различных видов искусств, в которой живопись играет исключительную роль, ведь чтение, музыка, проповедь иногда и перестают звучать в храме, а живописные изображения и вечером, и утром, и в полдень постоянно повествуют об истинной красоте.
Художественное оформление храма является не только реальностью движения человеческого духа от «дольнего мира к горнему», но и в обратном направлении, т.е. в мистическом акте схождения Божией благодати на человека. На любом богослужении, в процессе которого повторялась мистерия «страстей» Христовых, и особенно в дни великого поста, и в дни памяти мучеников, человек ощущал сложное возвышенно-трагическое чувство умиления. Согласно теории иконы, все храмовые изображения отражают свои «божественные прототипы», а через них архетип – Бога, и «образ» (то есть изображение святого) с той же неизбежностью продуцируется прототипом, как дерево отбрасывает тень и как Отец создал ...всю иерархию видимого и невидимого мира [7. С.15].
Единение неба и земли в храмовом действе приобретает особую силу: церковное пение, запах ладана, блеск и сверкание драгоценных камней мозаики, сияние множества светильников – создавали «общее небесным и земным тръжество, едино благодарение, едино радование, едино веселие» [11. С. 32].
Человеку Киевской Руси блистание «неизреченного света» представлялось одной из форм материализации невидимого Божества. Культ огня и света был распространен среди славянских народов еще до принятия христианства. Христианство принесло с собой идею внутреннего, духовного света, получившую широкое распространение с проникновением в славянскую культуру паламитской концепции «Фаворского света» – нерукотворного сияния Божественной энергии.
Начиная с Киевской Руси свет становится одним из видных эстетических феноменов в древнерусской культуре, воплощением мечты об идеальном грядущем Царстве света. Световая эстетика Руси давала сильные творческие импульсы изобразительному искусству, побуждая мастеров на художественное воплощение трудновыразимой световой материи. В представлении человека Киевской Руси иконописец выступал не ремесленником, а чудотворцем и почти кудесником. Древнерусский художник, зодчий, летописец не осознавали себя авторами или творцами создаваемого произведения, но лишь – исполнителями высшей воли, действующей через них. Отсюда удивительная особенность древнерусского эстетического сознания или характерная его черта – принципиальная анонимность авторов. Талант древнерусских художников служил общему делу – соборности, и поэтому оставался анонимным. Соборное сознание в православном понимании – это результат коллективного «духовного делания» собора единомышленников.
Категория соборности впервые введена в философию А.С. Хомяковым в начале XIX века, но она очень точно соответствует древнерусскому эстетическому сознанию. Именно соборность позволяет говорить об «эстетическом сознании», присущем целой культуре, что вряд ли применительно к новоевропейской культуре, где преобладали корпоративные и индивидуальные (личностные) формы эстетического сознания. В Древней Руси оно соборно, то есть имеет внеличностный и вневременной характер.
Литургический (соборный) путь человека к Богу в Древней Руси теснейшим образом связывался со сферой эмоциональноэстетического возбуждения верующего, или литургической эстетикой, и реализовался в процессе функционирования культового синтеза искусств на уровне эстетического катарсиса. Храмовая среда была ориентирована на нравственное очищение и духовное совершенствование человека, в том числе с помощью художественно-эстетического воздействия на него красоты, торжественности и возвышенности Литургии. Конечно, далеко не каждый человек Древней Руси вдумывался в философско-религиозный смысл того или того праздника, но каждый знал, что празднуется что-то достойное ликования, что-то возвышающее над человеческой жизнью.
Чувство возвышенного характерно для всего эстетического сознания Древней Руси. Наиболее полно оно проявилось в осознании древними русичами единства мудрости и красоты в искусстве как основы всякого творческого процесса. Для христианской эстетики важнейшей является аксиоматичная мысль о единственном Творце на земле – Боге. Человеческое творчество – это лишь отражение Божественного, оно возможно только при Его помощи, при вдохновении свыше. А потому искусство и мудрость виделись человеку Древней Руси неразрывно связанными, а сами термины воспринимались почти как синонимы. Искусство не мыслилось не мудрым, а художники на Руси почитались мудрецами. Например, Епифаний Премудрый в письме к Кириллу Туровскому почтительно называет живописца Феофана Грека «преславным мудрецом» и «философом зело искусным» за то, что он на основе мудрости мог созидать красоту. Осознание древними русичами единства красоты и мудрости является одной из особенностей и важнейшим принципом древнерусского искусства – софийности (от греч. софос -премудрость) – искусства, т.е. способности создавать высокодуховные произведения на уровне эстетического сознания.
Произведения искусства Древней Руси рассматривались как самодостаточная эстетическая ценность, возводящая человеческую личность к созерцанию Абсолюта, общению с Ним. Такое «возводительное» свойство по- лучило у ранних Отцов Церкви название ана-гогическое, способное «преображать» личность, изменять духовно-нравственное состояние человека в результате его общения с Абсолютом. Отсюда повышенная духовность многих произведений древнерусского искусства. Под духовностью понимается уникальное свойство живописи приводить зрителей в созерцательно-медитативное состояние, выводить его дух на уровень сверхсознания.
Такая нравственная ориентация древнерусской культуры в сфере эстетического сознания выражалась в целенаправленной устремленности к внутренней духовной красоте и проявлялась в аскетической эстетике. Преподобный Нил Сорский неоднократно писал, что аскетический подвиг ведет к созерцанию внутри себя Духовного Абсолюта, актуализируется в состояние неописуемого наслаждения, блаженства, внутренней радости и веселия [3. С. 21]. Нередко мистический опыт аскетов находил выражение в искусстве – многие иконописцы были монахами и мистические откровения умели выразить художественными средствами. Сами аскеты называли свой образ жизни «искусством из искусств», «художеством из художеств», а потому, наверное, Павел Флоренский и считал аскетику в прямом смысле православной эстетикой.
Таким образом, эстетика христианства заключалась не только в указании принципиально нового эстетического «Предмета», но и в приобщении к Нему в практическом (а не абстрактном) изменении человека, а вместе с ним и всего окружающего мира. По всей вероятности, именно это имел в виду Владимир Соловьев, когда утверждал в работе «Красота как преображающая сила», что «эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности» [10. С. 31]. (Отметим, что в указанной работе Соловьев предпринял попытку философского осмысления знаменитого афоризма, восходящего к Ф.М. Достоевскому – «Красота спасет мир», который не просто выигрышная метафора, но православная традиция поиска этой красоты, характерная для эстетического сознания Древней Руси.)
Все перечисленные выше характеристики настолько сложно переплетены друг с другом в самых разных плоскостях и, прежде всего, в целостном феномене эстетического сознания и в художественной культуре, что к ним можно легко применить парафразу богословской антиномической формулы – «неразделимы в разделениях» и «несоединимы в соединениях». Затрагивая одну характеристику, мы обязательно касаемся другой, которые все вместе выявляют самобытность древнерусского эстетического сознания, его уникальность, благодаря которой осуществился своеобразный синтез славянского менталитета, византийского религиозно-философского мышления и славянского миропонимания в богатейшую художественно-эстетическую культуру Древней Руси.
Татаро-монгольское нашествие, в XIII веке прокатившееся по Руси, конечно, приостановило развитие художественной культуры. Но мощный корень славянской дохристианской культуры, к которому был привит росток культуры Византии, был напитан такими соками самобытности и загадочности русской души, что на многие столетия стал мощным источником духовной энергии, который питает русскую культуру до сих пор.
Список литературы Эстетическое сознание Древней Руси как феномен художественной культуры
- Бердяев Н.А. Русская идея.//Вопросы философии. 1990. № 1.
- Библиотека литературы Древней Руси в 3-х томах. СПб.: Лига Плюс, 2000.
- Бычков В.В. Художественно-эстетическая культура Древней Руси. М.: Ладомир, 1996.
- Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.
- Бычков В.В. Античная культура и современная наука. М., 1985.
- Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII века. М., 1992.
- Демус О. Мозаики византийских храмов. М.: Индрик, 2001.
- Памятники литературы Древней Руси, в 12 томах. М.: Наука, 1978-1994.
- Соловьев В. Сочинения в 2-х томах. М.: Мысль, 1998.
- Соловьев В.Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
- Философия русского религиозного искусства. Послание Иосифа Волоцкого. М.: Прогресс, 1993.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Прогресс, 1991.