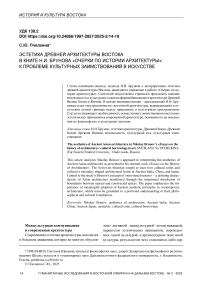Эстетика древней архитектуры Востока в книге Н.И. Брунова «Очерки по истории архитектуры»: к проблеме культурных заимствований в искусстве
Автор: Пчелкина С.Ю.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу подхода Н.И. Брунова к интерпретации эстетики древней архитектуры Востока, нашедшего отражение в работе «Очерки по истории архитектуры». Советский искусствовед стремился проследить влияние ментальности и культурных кодов на формообразование в архитектуре Древней Индии, Китая и Японии. В центре внимания автора – предложенная Н.И. Бруновым идея «неструктивности» восточной архитектуры, выражающаяся в отсутствии четкой границы между природным и культурным пространством. Статья подчеркивает необходимость осмысленного заимствования восточных эстетических принципов в современной архитектуре, основанного на понимании их философских и культурных истоков.
Н.И. Брунов, эстетика архитектуры, Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Япония, ментальность, культурный код, культурные заимствования
Короткий адрес: https://sciup.org/170209471
IDR: 170209471 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/14-19
Текст научной статьи Эстетика древней архитектуры Востока в книге Н.И. Брунова «Очерки по истории архитектуры»: к проблеме культурных заимствований в искусстве
Межкультурная коммуникация лено активной межкультурной коммуникацией, и современная архитектура переносом эстетических принципов, порожден-
Современная эстетика архитектуры находится ных одной культурой, в архитектурное поле иной в большом движении, которое во многом обуслов- культуры, результатом чего становится либо гар- моничное слияние, либо конфликт и столкновение. В этой ситуации растет потребность в исследованиях, фокусирующих внимание на специфике культурных различий, однако такого рода исследования нуждаются в соответствующем материале, на основе анализа которого можно было бы осуществлять герменевтику эстетической мысли, вложенной в произведения архитектуры. Среди работ, в которых содержатся сведения, релевантные задачам ментальной реконструкции культурных кодов, пронизывающих любой артефакт, примечательна книга «Очерки по истории архитектуры» (1935–1937 гг.) [1] Николая Ивановича Брунова (1898-1971), советского искусствоведа, историка архитектуры, преподавателя знаменитого Московского архитектурного института (МАРХИ), переизданная в 2003 г.
Методология Брунова построена на объяснении исторически значимых архитектурных форм через ментальность породившего их сообщества. Любой артефакт есть носитель культурного кода, содержащий информацию о философии жизни, которая сложилась в сознании исторической общности в определенной природной среде, и архитектура в этом процессе перехода мысли в форму вещи (артефакта) играет свою особенную роль, осуществляя творческое преображение пространства природы в пространство культуры. П.А. Флоренский, преподававший в МАРХИ в одно время с Н.И. Бруновым, писал: «Вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства. В одном случае это - пространство наших жизненных отношений, и тогда соответственная деятельность называется техникой. В других случаях это пространство есть пространство мыслимое, мысленная модель действительности, а действительность его организации называется наукою и философией. Наконец, третий разряд случаев лежит между первыми двумя. Пространство или пространства его наглядны, как пространства техники, и не допускают жизненного вмешательства - как пространства науки и философии. Организация таких пространств называется искусством» [5, с. 55]. Если принять в качестве концептуальной основы определение искусства, предложенное Флоренским, то архитектуру как искусство, которое полностью связано с творчеством пространственных форм, можно рассматривать не только как некий художественный объект, но и как слепок ментальности. Культурный код - вот что определяет художественные предпочтения, воспроизводимые на протяжении длитель- ного времени в пределах какой-либо культурной общности.
Европейское архитектурное искусство достаточно давно имплементирует архитектурные формы, заимствованные из восточных культур, в особенности Древней Японии и Китая. Попытки аккультурации дальневосточной архитектуры связаны со стремлением привнести в собственный архитектурный ландшафт наиболее ценные (в глазах европейца) элементы организации предметной среды, создавая т.н. «китайский» или «японский» стиль. Но чтобы это заимствование не было механистическим, необходимо осознавать те идеи, которыми вдохновлялись творцы древнеиндийской, древнекитайской и древнеяпонской культур.
Граница между природой и культурой
В контексте рассуждений Н.И. Брунова, рассматривающего архитектуру как организацию пространства, которая порождается сознанием человека вследствие переживания им природы, выявляются важные особенности эстетики архитектуры Индии, Китая и Японии. Брунов исследует древние дальневосточные стили, стремясь представить архитектуру как границу между пространством природы и пространством культуры, и на основании описаний, которые содержатся в его книге, создается впечатление, что эстетической чертой древнеиндийской, древнекитайской и древнеяпонской архитектур является отсутствие зримой, нарочитой границы между культурным пространством и пространством природы, которая была бы создана формами типичных для этих стилей архитектур. При этом подобный подход в формообразовании обусловлен не проективной или технологической неразвитостью, а, наоборот, стремлением передать языком архитектуры сознательную тягу носителей древних дальневосточных культур к природе. В противном случае эти формы носили бы печать «нерациональности» и невольной грубости, что делало бы их эстетически непривлекательными. Последнее особенно важно в контексте поиска объяснений эстетической привлекательности древнеиндийской, древнекитайской и древнеяпонской архитектур для европейских архитекторов.
В «Очерках по истории архитектуры» архитектурные особенности Древней Индии, Китая и Японии интерпретируются в тесной связи с эстетической идеей трансграничности природы и архитектуры. В первом томе «Очерков», проводя формальный анализ архитектуры указанных стран,
Н.И. Брунов вскрывает культурные коды носителей этих культур, лежащие в основе их ментальности, полагая спецификой их архитектурных стилей высокую степень приближенности архитектуры к пространству природы. Европейская же архитектура, согласно Н.И. Брунову, изначально характеризуется стремлением к жесткому разграничению пространства природы и пространства культуры. Эта исследовательская установка историка архитектуры нашла выражение в специфическом авторском термине «структивность». Для Н.И. Брунова наличие или отсутствие структивно-сти – важный признак в определении архитектурной формы, поскольку речь идет о степени овладения природным материалом, которая характеризуется мерой его дифференциации, т.к. изначально природа воспринимается нами как некий континуум. Общим признаком древних дальневосточных – «доордерных» – архитектур является их «неструктивность», т.е. отсутствие жесткой дифференциации внешнего и внутреннего пространства архитектурного сооружения, слабо обозначившееся пространственное членение, малое выделение пространственных форм [1, c. 50].
Эстетические особенности архитектуры Древней Индии, Китая и Японии
В целом архитектуре Китая и Японии присуща легкость архитектурных форм, в которых выражено стремление растворить человека в пространстве природы. Основным достижением древней китайско-японской архитектуры исследователь считает пагоду как форму организации пространства. На основе ее анализа он выявляет специфические черты дома-павильона как типичного воплощения этой формы [1, c. 50]. Во-первых, это отсутствие ясного структурного взаимоотношения – тектонического членения на несущие и несомые части: «вместо ясного структурного взаимоотношения» – «взаимопроникновение вертикали и горизонтали». Это порождает всем известный эстетический эффект пагоды – «крыша парит над зданием» [1, c. 52]. Во-вторых, внутреннее пространство является частью неограниченного пространства природы, поэтому «все формы легки, воздушны и пропитаны атмосферой»; масса «отступает на второй план» [1, c. 53]. Отсутствие структивности проявляется в том, что сооружение как бы ускользает обратно в природу, из которой оно проступает. Отсюда мистическое чувство, возникающее в попытках найти границу между рукотворным и нерукотворным пространством.
В-третьих, материальная граница между пространством природы и внутренним пространством дома не сконцентрирована в одном месте: «нет или почти нет членения пространства», оно остается цельным и единым, растворяется в природе [1, с. 58]. Это можно назвать дуализмом материальной дифференциации: с одной стороны, она присутствует в виде стен, крыши и т.д., с другой – работает на дематериализацию, скрадывая эти границы. Материальность границы ощущается скорее на функциональном уровне: сооружение все-таки выполняет функцию искусственного укрытия от негативных проявлений природы, однако на эстетическом уровне воспринимается как нечто естественное. «Само здание снаружи уподобляется деревьям», вписано в общую картину зелени и деревьев и подчинено им [1, с. 58]. В целом архитектура на уровне эстетического переживания воздействует на человека так, будто отводит его взгляд от факта своей «рукотворности», укореняет его ощущение неразделимости с природой, как бы табуируя саму мысль о возможном отчуждении.
В отношении индийской архитектуры речь идет о стиле т.н. «буддийско-брахманского» периода, который является чисто индийским изобретением, воспроизводился на протяжении многих веков и в сознании носителей других культур прочно ассоциируется с традиционной Индией. Главным объектом эстетического переживания здесь является пещерный храм («ступа» или «чай-тья») и башнеобразный храм. Главной архитектурно-композиционной особенностью буддийского храма, с точки зрения Н.И. Брунова, является пещерность внутреннего пространства. Его типичное расположение – выдолбленное в природной горе пространство, внешне пластически оформленное как пространство человека, но в архитектоническом отношении мало дифференцированное от пространства природы. Легко уловить, что эстетика чайтьи во многом похожа на эстетику пещеры: «Льющийся из пространства природы внутрь пространства пещеры свет наглядно выражает зависимость пещеры от пространства природы» [1, с. 113]. То же можно сказать и о башнеобразных храмах новобрахманского периода. Такой храм при наличии черт, отличающих его от чайтьи, тем не менее воспроизводит принцип пещерного формообразования: «Вся композиция носит на себе следы происхождения от первобытного дольмена и от пещеры. Внутреннее пространство очень незначительно и совершенно не соответствует колоссальной наружной массе. Оно имеет пещерный характер и унаследовано от буддийской чайтьи» [1, с. 133]. Пещерность определяет и вторую черту древнеиндийской архитектуры – это безграничность толщи материи: «Индийские новобрахманские храмы почти не имеют внутреннего пространства; в них господствуют тяжелые непроницаемые наружные массы» [1, с. 126–127].
Однако массивность, замкнутость и даже угрюмость древнеиндийской архитектуры преодолеваются эстетической характеристикой, определяемой Н.И. Бруновым следующим образом: «Главным носителем художественной композиции является поверхность. Она выражает органическое набухание изнутри наружу. Как башня в целом, так и каждая более или менее самостоятельная часть ее в отдельности круглится изнутри. Благодаря этому отдельные части здания и все здание в целом напоминают растительные формы. Получается впечатление развивающегося наружу внутреннего центра роста» [1, с. 134]. Это роднит древнеиндийскую архитектуру с вышеописанной древнекитайской и древнеяпонской: «Существует соответствие между формами индийской архитектуры и тропической растительностью страны. В этом смысле есть известное сходство между индийской и китайской архитектурой. Индийская архитектура тоже вписывает свои здания в природу, уподобляя ей свое зодчество» [1, с. 130– 131]. Форма древнеиндийского башнеобразного храма есть попытка передать неудержимую, изобильную энергию роста тропической флоры.
Главное эстетическое переживание от созерцания древнеиндийской архитектуры – иллюзия мистического растворения индивидуального внутреннего мира человека во всеобщем пространстве безличного существования огромной космической массы растительной природы Индии, которая невиданной, неосознаваемой человеческим умом силой выталкивает из недр земли тропический лес, горы, архитектуру и которая есть как бы продолжение и повторение этого роста. «Архитектура толкует природу как населенную таинственными силами» [1, с. 131]. Но в отличие от древнекитайской и древнеяпонской архитектуры, которые нацелены на растворение сооружений в природе, древнеиндийской архитектуре присуща другая черта, составляющая ее особенность: «…По сравнению с китайским зодчеством, в архитектуре Индии новобрахманского периода господствует наружная масса, вырастающая из ок- ружающего ландшафта, но вместе с тем противопоставленная природе» [1, с. 131]. Это задает иную динамику человеческого переживания при созерцании архитектуры: глубина выносится на поверхность, внутреннее пространство поглощается внешним. Здесь мы можем говорить об аннигиляции дуализма двух архитектурных пространств и победе одного за счет другого. Если в буддийском пещерном храме эстетика в основном концентрируется во внутреннем пространстве, порождая странный эффект пещерной красоты, то в новобрахманском башнеобразном храме основная эстетическая ценность заключена в растительно-взбухших формах внешнего пространства.
Таким образом, с точки зрения Н.И. Брунова, для древних архитектурных стилей Индии, Китая и Японии характерны следующие общие принципы архитектурного формообразования: 1. Отсутствие ясного тектонического членения на несущие и несомые части; 2. Трактовка архитектурного пространства как части природы; 3. Отказ от создания материальной границы между пространством природы и пространством сооружения как цели архитектурного творчества; 4. Нацеленность художественной формы архитектуры на порождение иллюзорного, мистического переживания. Различия между стилями, безусловно, имеются и определяются набором стилеобразующих средств, хорошо фиксируемых в обликах сооружений. Но вместе с тем в их основе лежит общее эстетическое начало, радикально отличное от европейской архитектурной эстетики. И китайско-японская, и индийская архитектура есть архитектура слабо расчлененных форм – по отношению как к природным формам, так и к формам внутри самого архитектурного сооружения.
Культурный кодв архитектурном творчестве
Характер осмысления Н.И. Бруновым особенностей архитектуры Древней Индии, Китая и Японии соответствует феноменологическому подходу: архитектура как оформленное пространство выступает эпифеноменом человеческого сознания, в котором преломляется то, как человек понимает себя и окружающую его природу. Культура есть форма понимающего отношения человека к бытию, а искусство – художественное преломление понимающего отношения к природе, к самому себе, к обществу и к трансцендентному началу (Богу). Из понимающего отношения творятся материальные формы, символически обоз-
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА начающие это понимание, которое, собственно, и называют «культурным кодом». Сам же «культурный код» оформляется вокруг того, что в контексте европейской философской мысли принято называть «идеей». Э. Панофски, немецкий и американский историк и теоретик искусства, один из крупнейших представителей немецкой науки об искусстве 1920-х гг. и американской искусствоведческой школы 1930-х – 1960-х гг., писал:
«И поскольку Архитектура зависит от образов идеальных, возвышается и она над природою» [4, с. 226]. И прежде, чем появляется архитектура как таковая, по словам Панофски, архитектор «должен измыслить благородную Идею и поставить себе определенный закон, каковой будет ему порядком и правилом» [4, с. 228].
Идея есть открывшееся человеку понимание, из нее рождается все, что есть в культуре, и среди прочего, конечно же, и архитектура. Эстетический эффект архитектуры объясняется материальным воплощением некоей «идеи», которая, по определению польского эстетика и феноменолога Р. Ин-гардена, тождественна «форме геометрического тела»: «Построенный и существующий реальный предмет, наделенный архитектором особенными пространственными свойствами и качествами своих поверхностей, составляет бытийную основу архитектурного произведения искусства» [3, с. 222]. И в какой мере человек на уровне «идеи» осознает свое отличие от природы, в той он ищет и творит способ провести дифференциацию природного материала, создавая в пространстве природы пространство культуры в виде зданий и сооружений, красота которых и заключается в эффекте выделения, выступания части материальной силы на фоне природного континуума: «Если некий реальный предмет (постройка) должен составлять бытийную основу некоторого определенного архитектурного произведения, то среди его свойств должна выступать прежде всего объективная пространственная форма, по крайней мере в главных своих контурах, если не целиком как форма (образ), являющаяся главным элементом архитектурного произведения» [3, с. 223]. Другими словами, пространственная форма, о которой идет речь в рассуждениях Р. Ингардена как о главном элементе архитектурного произведения, не только является системой поверхности произведения, но известным образом проникает также в глубину произведения. Архитектурное произведение не только имеет свою основу существования в трехмерном, полном массы (материи) физичес- ком предмете, но само является системой формы масс (геометрических тел) и тем самым содержит в своей сущности все те конструктивные части и свойства, которые логически связаны с видимой внешней формой целого. Существует, если так можно выразиться, своеобразная логика масс, их форм, взаимного расположения, обусловленности и т.д. Каждое архитектурное произведение является как бы решением проблемы логики масс, составляет некий конструктивный скелет, который приводит к определенной внешней пространственной форме [3, с. 223].
Осознание принципов формообразования архитектуры Древней Индии, Китая и Японии помогает увидеть культурные коды, которые, в соответствии с идеей культурного бессознательного, детерминируют художественный стиль любой традиционной культуры. Юнгианский подход к аналитике культур позволяет указать на ряд аспектов [6, с. 106–107], которые нельзя не учитывать при изучении вопроса культурных заимствований из стран Востока, в т.ч. в сфере архитектуры. Во-первых, это отношение человека и природы, заложенное в качестве культурного кода в основание любой культуры. Если на уровне коллективного бессознательного европейская культура тяготеет к четкому обозначению границ между пространством природы и пространством человека, то традиционная культура Индии, Китая и Японии такого разграничения целенаправленно не проводит. Во-вторых, это отношение человека к самому себе. Продукт европейской архитектуры – это закрытые внутренние пространства, являющиеся как бы эпифеноменом внутреннего мира человека, что соответствует ментальности западного человека, мыслящего себя через противопоставление собственного внутреннего мира и мира внешнего. В то же время архитектура Индии, Китая и Японии создает эффект «перетекания» из внутреннего мира в мир внешний и обратно.
Таким образом, архитектура Древней Индии, Китая и Японии содержит в себе смыслы, радикально отличающиеся от смыслов европейской архитектуры, что требует внимания и осмысления в случае заимствования. Для достижения эстетического эффекта аналогичного тому, что производят лишенные структивности архитектурные формы древневосточных сооружений, необходимо отказаться от слепого копирования материальных форм и попытаться в процессе творчества включить в поле своей ментальности идеи, лежащие в основе традиционной восточной культуры.
Это становится возможным на уровне метакультуры , которая, по определению С.Е. Ячина, характеризуется творческим открытием, свершающимся на границе культурных сред, когда личность осмысленно, т.е. с ясным пониманием идейного источника художественных произведений, относится к достижениям своей и иных культур, «когда рефлексивно принимается инаковость другого, и причем так, что она оборачивается возможностью взаимного соразвития» [7, с. 248–248].