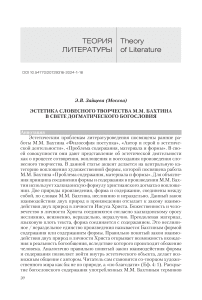Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина в свете догматического богословия
Автор: Зайцева Э.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Эстетическим проблемам литературоведения посвящены ранние работы М.М. Бахтина «Философия поступка», «Автор и герой в эстетической деятельности», «Проблема содержания, материала и формы». В своей совокупности они дают представление об эстетической деятельности как о процессе сотворения, воплощения и воссоздания произведения словесного творчества. В данной статье акцент делается на центральную категорию воплощения художественной формы, которой посвящена работа М.М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы». Для объяснения принципа соединения формы и содержания в произведении М.М. Бахтин использует халкидонскую формулу христианского догмата о воплощении. Две природы произведения, форма и содержание, соединены между собой, по словам М.М. Бахтина, неслиянно и нераздельно. Данный закон взаимодействия двух природ в произведении отсылает к закону взаимодействия двух природ в личности Иисуса Христа. Божественность и человечество в личности Христа соединяются согласно халкидонскому оросу неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Преодолевая материал, языковую плоть текста, форма соединяется с содержанием. Это неслиянное / нераздельное единство произведения называется Бахтиным формой содержания или содержанием формы. Правильно понятый закон взаимодействия двух природ в личности Христа открывает возможность вхождения в реальность богообщения, вследствие которого происходит обожение человека. Аналогично правильно понятый закон взаимодействия формы и содержания позволяет войти внутрь эстетического объекта, делает возможным общение с автором. Читатель сам становится со-творцом художественного мира как бы не по природе, а «по благодати» (Еф. 4: 1). Раскрытие богословского содержания употребленных М.М. Бахтиным терминов христианской догматики позволяет взглянуть на эстетический объект как на аналог плана домостроительства человеческого спасения.
Халкидонский догмат, форма, содержание, неслиянность, нераздельность, две природы, эстетический объект
Короткий адрес: https://sciup.org/149145247
IDR: 149145247 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-18
Текст научной статьи Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина в свете догматического богословия
Эстетическим вопросам словесного творчества посвящены ранние работы М.М. Бахтина. Всего несколько незавершенных работ, не полностью до нас дошедших, случайно кем-то записанных устных лекций производят сильное впечатление чего-то главного, невыразимого, недосказанного.
Истокам учения посвящена монография Н.Д. Тамарченко «Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция». Последовательно переходя от одного философа к другому, Н.Д. Тамарченко приходит к выводу, что «в рамках Серебряного века Бахтин видел и соотносил друг с другом многообразно проявившиеся взаимоисключающие (а с его точки зрения взаимодополняющие) тенденции универсального характера и значения» [Тамарченко 2011, 335] . Используя язык того или иного философа, М.М. Бахтин в некотором отношении соглашался с противоречащими друг другу концепциями, в каждой из них наблюдая грань единой универсальной истины. Тем самым как бы предвосхищая свои собственные слова: «Единая истина требует множественности сознаний».
С символистами он был как символист, с марксистами как марксист, с религиозными философами как религиозный философ, «со всеми был всем», ради единой истины, раздробленной множеством сознаний. М.М. Бахтин, «философ диалога», сам своим личным примером воплощал идею диалогичности на высокой стадии развития диалога (см.: [Тюпа 2019, 256]).
С другой стороны, сложить из этих осколков образ самого М.М. Бахтина крайне сложно.
Все рассмотренные Н.Д. Тамарченко философско-филологические концепции, наподобие коннотаций Ролана Барта в «S/Z», слой за слоем снимаются как идеологические маски в попытках добраться до чистого денотата. По нашему убеждению, этот чистый денотат, прозрачный источник бахтинского учения иного происхождения. Его нужно искать не в глубинах философии, а в глубинах исторического богословия.
Английский богослов о. Эндрю Лаут в своем труде «Современные православные мыслители: от «Добротолюбия» до нашего времени» в главе о С.С. Аверинцеве вскользь замечает, что «М. Бахтин – это еще один ученый, который прикровенно перенес вопросы православного богословия в контекст строго литературоведческой дискуссии» [Лаут 2020, 620]. Благодаря этому вопросы литературоведения, освященные изнутри богословской проблематикой, являются актуальными для практики анализа художественных произведений и по сей день.
В.И. Тюпа в своей статье «Два крыла художественного письма» [Тюпа 2023] размышляет о принципиальной важности рассмотрения произведения словесного творчества в единстве двух природ – эстетической и риторической. В основе соединения двух природ произведения лежит бахтинский принцип неслиянности / нераздельности формы и содержания, позаимствованный им из догматического богословия. В.И. Тюпа утверждает, что спасти словесное искусство в условиях современного стремления к ремесленной «креативности» и нон-фикшену (в противовес подлинному эстетическому творчеству) можно только в случае понимания единства двуприродных аксиологически равнозначных систем в составе одного произведения.
В условиях потери интереса в постмодернистском пространстве к эстетической составляющей произведения необходимо вернуться к статье М.М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы» (далее – ПСМФ), где впервые прозвучала данная формула в своем строгом и точном богословском значении. В противном случае мы можем оказаться за границами эстетического объекта и никогда не войти в него как третье необходимое лицо дискурса, как читатель. Следовательно эстетическое творчество останется для нас неактуализированным.
В конце статьи ПСМФ ясно звучит халкидонский догмат христианской веры о воплощении, применяемый М.М. Бахтиным для правильного понимания соединения формы и содержания в единстве эстетического объекта. М.М. Бахтин говорит о законе взаимодействия двух природ, формы и содержания (формы как формы содержания и содержания как содержания формы), в единстве эстетического объекта, соединенных между собой неслиянно / нераздельно [Бахтин 2017, 335].
Этот факт дает основание проанализировать весь предыдущий текст статьи в свете догматического богословия.
Халкидонский догмат (4 Вселенский Собор) о двух природах в личности Иисуса Христа звучит так:
Последуя Святым отцам, все единодушно поучаем исповедовать одного и того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, <…> одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, – так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лице и одну Ипостась, – не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа [Лосский 2004, 469].
Эстетический анализ может быть осуществим только при условии халкидонского принципа соединения материальной формы и духовного содержания. При таком внимании к неизреченному взаимодействию формы и содержания в эстетическом объекте можно «созерцать универсум» (эстетический объект как «образец созерцания универсума» по Ф. Шеллингу [Шеллинг 1966]), можно участвовать в жизни произведения искусства как третье необходимое лицо дискурса, как читатель, как личность.
Оживить мертвую материю текста возможно только при эстетическом видении, заняв определенную ответственную позицию в созерцании произведения.
Можно предположить, что, двигаясь к богословской формуле соединения формы и содержания в эстетическом объекте (концовка ПСМФ), мысль Бахтина преодолевает все христологические ловушки на пути к правильному пониманию эстетического объекта. В богословии сохранение чистоты догматической истины делает возможным человеческое спасение. Согласно христианской догматике, если бы Христос не был истинно Богом и истинно Человеком, то спасение было бы невозможным, вочеловечение было бы бессмысленным. Человек не мог бы войти в тайну домостроительства, не преодолел бы средостение, был бы лишен богооб-щения. Подобным образом, если бы произведение искусства не состояло в неслиянном / нераздельном соединении формы и содержания, читатель не смог бы созерцать тайну эстетического творения, был бы лишен возможности общения с автором. Бессмысленным было бы словесное искусство как часть человеческой культуры, если бы оно сводилось только к использованию риторических фигур, типов знаков, специфики их референции, композиции и т.п. факторов художественного впечатления (риторический аспект), а не к созерцанию никогда не бывшего мира эстетического творения (эстетический аспект).
Если посмотреть на композиционную структуру статьи ПСМФ со стороны просвечивающего сквозь нее богословского содержания, то можно обнаружить основные этапы исторического (диахронического) богословия.
На пути к халкидонскому догмату, сквозь тринитарные споры первых соборов, христианство преодолело две крайности в понимании сущности двух природ в воплощенном Боге Слове – крайность александрийской школы и крайность антиохийской школы. Александрийскую (аллегорическую) школу больше интересовала божественная природа в личности Христа, антиохийскую (конкретную) школу – человеческая природа. Различный акцент не был догматическим отклонением. Ересью стала крайность отрицания божественного или человеческого в личности Христа. Этими ересями стало несторианство (признававшее только человеческую природу) и монофизитство (признававшее только божественную природу). Халкидонский догмат соединил лучшие достижения александрийской школы и лучшие достижения антиохийской школы в единую формулу: две природы в одной ипостаси Бога воплощенного, соединенные между собой неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно.
Статья М.М. Бахтина ПСМФ подобным образом преодолевает две крайности в понимании произведения искусства. Он делит свою работу на отделы: проблема содержания, проблема материала, проблема формы. Форма произведения понимается в двунаправленном действии. С одной стороны она прикреплена к материалу (слову как лингвистической категории), с другой она оформляет содержание. Форма, прикрепленная к материалу, определяет интерес к внешней «формальной», материальной стороне произведения. «Материальная эстетика не способна обосновать художественную форму» [Бахтин 2017, 286], поэтому такой подход никак не может претендовать на полноту понимания. Однако и голое содержание без формы не может быть «схвачено» анализом, так как содержание без формы, по словам Бахтина, «дурной прозаизм». Содержание как сгу-
Э.В. Зайцева (Москва) | Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина... щенная действительность познавательного и этического действия автора без формы не может быть «схвачена», а значит, эстетизирована. В таком случае между материальной формой текста и его ценностным содержанием, между плотью текста и духом (смыслом) вырастает непреодолимая пропасть. Соединить в одно единство две природы (материальную и содержательную, риторическую и эстетическую) может только такая Форма, которая в полноте бы включала как гениально скомпонованный материал, так и внеположную тексту содержательную действительность автора. В абсолютной полноте такая Форма (Слово) владеет как формой материала, так и формой содержания, соединяя их вместе (можно продолжить словами халкидонского ороса), «так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества».
Преодолевая материал или язык – смертную плоть текста – форма соединятся с содержанием. М.М. Бахтин говорит: «Художник как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием» [Бахтин 2017, 317], что в некотором смысле напоминает пасхальный тропарь «Смертию смерть поправ» (сравним: языком побеждая язык).
Догматически правильно понятый закон неслиянного / нераздельного соединения в единстве эстетического объекта обеспечивает возможность нашего участия в его жизни. Бахтин говорит: «Через форму я вхожу как необходимый конститутивный момент ее» [Бахтин 2017, 335]. Именно через такую архитектоническую Форму, ту которая оформляет содержание, эстетический объект, «я как активный субъект», вхожу как «необходимое» звено эстетического свершения.
Правильно понятый закон взаимодействия формы и содержания объясняет возможность вхождения в текст читателя, делает возможным диалог с автором и героем. Этот тринитарный диалог (автора-героя-читателя) оживляет мертвую материю текста и завершает план эстетического творения.
Догматическая истина христианства о неслиянном / нераздельном соединении божества и человечества объясняет возможность вхождения в богообщение, возможность об о жения. Вспоминается знаменитое богословское положение «Бог вочеловечился, чтобы человек об о жился» (Афанасий Александрийский и др.). Перенесение М.М. Бахтиным принципа этой формулы на эстетический анализ объясняет как возможность читателю войти в живое общение с автором, так и возможность читателю быть со-автором как бы не по природе, а «по благодати» (Еф. 1: 4).
Автор как бы предлагает читателю подобно Аврааму стать его другом и свидетелем видения тайны эстетического объекта.
«Авраам рад был увидеть день Мой. И увидел и возрадовался» (Ин. 8: 56), говорит Христос, имея в виду тот самый момент Ветхого Завета, когда Авраам занес нож над своим единородным сыном и увидел каким образом будет совершенно спасение мира. В позиции Авраама находится каждый читатель произведения словесного искусства, призванный автором к созерцанию одного и того же главного события истории человечества – жертвенного спасения мира (спасения человека).
«Художественная творящая форма оформляет прежде всего человека, а мир – лишь как мир человека» [Бахтин 2017, 335].
Говоря о соединении формы и содержания, Бахтин имеет в виду не безличный процесс. Оформляется герой и окружающий его мир, имеющий к нему непосредственное отношение.
Персонально понятое соединение формы и содержания еще больше роднит Форму (форму содержания) с богословским халкидонским догматом, потому что воплощает героя (двуприродную личность). Через героя автор и читатель встречаются в диалоге. Автор и читатель посредством формы оказываются в пространстве единого ценностного волевого содержания. Автор создал героя от избытка любви, читатель, полюбив героя, встречается с автором. Единство любви между автором-героем-читателем обеспечивает сотериологию текста и объясняет смысл искусства как одной из форм человеческой деятельности. Автор и читатель с вненаходи-мой к эстетическому объекту точки любовно сопереживают герою, жалеют, оправдывают, милуют, прощают. Герой в своем художественном мире обладает свободой воли, поэтому автор и читатель могут только любить и желать его спасения, не вмешиваясь в его жизнь. Таким образом, эстетическое творение является неким прообразом плана человеческого спасения.
М.М. Бахтин в конце ПМСФ говорит о неком телесном авторе, входящем в произведение: «Особенно ясно вхождение автора – телесного. Душевного и духовного человека – в объект. Ясна не только нераздельность, но и неслиянность формы и содержания» [Бахтин 2017, 335].
Анализ наследия М.М. Бахтина в целом позволяет увидеть, что в некоторых работах ученый, говоря об авторе, имеет в виду двух авторов:
-
1. Вненаходимого творца созданного произведения, как невоплощенную, но действующую и все пронизывающую иноприродную активность – «энергию произведения» (ср. с богословской божественной энергией) [Бахтин 2017, 334].
-
2. Автора, который телесно входит в произведение. Фигура такого автора сближается с современным понятием нарратора (аукториального субъекта внутри художественного виртуального мира).
Таким образом, автор по Бахтину может быть тождественным абстрактному автору («облеченному в молчание») или тождественен автору аукториальному (воплощенному, говорящему и видящему). Когда псалмопевец говорит: «Рече Господь Господу моему сиди одесную меня», под Господом понимаются два различных лица единого божества, различные по своим функциям (богословские функции Троицы – нерождение / рождение / исхождение). Подобная диалектика применима в отношении бахтинского автора. Под одним словом подразумеваются два различных лица единого дискурса. Принципиально вненаходимый автор для жизни эстетического объекта «посылает Сына Своего Единородного» – «телесного духовно-душевного автора».
«Духовного и душевного человека» следует понимать в значении учения о душе и духе в контексте понимания взаимоотношений я и другого в «Авторе и герое в эстетической деятельности» (далее – АГ). В «духе я могу только осуждать себя», душу оформляет другой. Душа для другого становится эстетическим объектом. Ее с вненаходимой позиции прощает, любит, милует другой. Это соединение бахтинского учения о я и другом в личности «телесного автора» (героя) как духовно-душевного человека еще более сближает этого Героя с Богочеловеком Христом.
Поскольку эстетический объект – это сотворенный воображенный мир личностного происхождения, то, становясь свидетелем / созерцателем нового дивного мира, читатель с внешней к эстетическому объекту позиции наблюдает действие человеческого я-в-мире – изменение, преображение, спасение героя. Но герой спасается не сам по себе, а посредством со-направленного с автором мысленного желания оправдания и прощения с вненаходимой позиции. Этот акт мысленного соединения автора и читателя в со-переживаемой действительности героя называется катарсисом. Эстетическим очищением .
С вненаходимой позиции посредством формы читатель приглашается автором стать свидетелем эстетического свершения. Через оформленное содержание замкнутого и изолированного мира произведения искусства автор и читатель перестают быть субъектами конкретной действительности, а становятся творцом и со-творцом нового мира – мира героя, нуждающегося в оправдании с вненаходимой позиции. Таким образом, весь акт человеческого домостроительства (от творения, воплощения до спасения) отражен в эстетическом творчестве.
Благодаря тому, что герой, воплотившись, совмещает в себе две онтологически разные природы, содержательную и формальную, читательское я героем изменяется. Христос говорит: «Никто не приходит ко Отцу, как только через меня» (Ин. 14: 16). Богочеловеком Творец встречается со своим творением точно так же, как героем автор встречается с читателем.
Автор и герой, я и другой, творец и творение – «все движется любовью» (последние ключевые слова «Божественной комедии» Данте) и без любви, без этой животворящей энергии словесное произведение навсегда останется мертвым телом текста, не имеющим никакого смысла в единстве человеческой культуры.
Список литературы Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина в свете догматического богословия
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Избранное. Т. 1: Автор и герой в эстетическом событии / сост. Н.К. Бонецкая. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. С. 122–279.
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Избранное. Т. 1: Автор и герой в эстетическом событии / cост. Н.К. Бонецкая. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. С. 280–336.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. 880 с.
- Давыденков О. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2017. 624 с.
- Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: курс лекций. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2006. 935 с.
- Лаут Э. Современные православные мыслители: от «Добротолюбия» до нашего времени. М.: Паломник, 2020. 640 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Издательство им. святого Льва, папы Римского, 2004. 504 с.
- Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М.: Издательство Кулагиной, 2011. 400 с.
- Тюпа В.И. «Диалог согласия» как неориторический проект Бахтина // Тюпа В.И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике. М.: Юрайт, 2019. С. 252–263.
- Тюпа В.И. Два крыла художественного письма // Studia Litterarum. 2023. Т. 8. № 1. С. 10–45.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. 496 с.