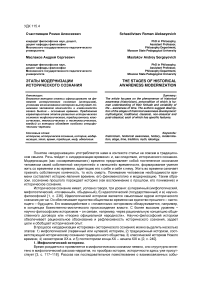Этапы модернизации исторического сознания
Автор: Счастливцев Роман Алексеевич, Маслаков Андрей Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
Внимание авторов статьи сфокусировано на феномене исторического сознания (историзма), условием возникновения которого выступает понимание человеком конечности и изменчивости своего бытия - осознание времени. Предложена характеристика этапов развития исторического сознания: мифологического, традиционного, классического, неклассического и постклассического, каждый из которых обладает особыми специфическими чертами.
Историзм, историческое сознание, история, модернизация, этап, время, традиция, миф, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14940770
IDR: 14940770 | УДК: 115.4
Текст научной статьи Этапы модернизации исторического сознания
Понятие «модернизация» употребляется нами в контексте статьи не совсем в традиционном смысле. Речь пойдет о «модернизации времени» и, как следствие, исторического сознания. Модернизация (как «осовременивание») времени представляет собой постепенное осознание человеком своей собственной «внутренней» и «внешней» временности, формирование умения жить со временем и во времени, адаптацию его к себе и себя к нему. Жить во времени означает признать собственную конечность, то есть смерть. Понимание человеком необходимости времени составляет историю явления времени, его феноменологию и модернизацию. Таким образом, осознание прошлого порождает историю (как воспоминание о прошлом, его понимание) и историческое сознание.
Историческое сознание имеет, условно говоря, три уровня: а) первичный (мифологический, мифопоэтический, «почвенный», обыденный), б) идеологический (государственный) и в) научнофилософский [1, с. 236]. Идеологический историзм является смысловым ядром исторического сознания per se . Он обеспечивает единство общества во времени как единство прошлого – настоящего – будущего. Его взаимодействие с «почвенным» историзмом обнаруживается, например, в концепции божественно-мистического происхождения власти. С более высоким уровнем – научно-философским историзмом – он связан, например, через рациональную концепцию общественного договора или «теорию официальной народности». Научно-философский историзм обеспечивает рациональное обоснование и рефлексивность исторического сознания, задает цели и обобщает исторический опыт.
В процессе «модернизации историзма» (исторического сознания) можно выделить несколько этапов: 1) мифологический (первичный или нулевой) историзм, 2) традиционный историзм, соответствующий историческому сознанию традиционного общества, 3) классический историзм Нового времени, 4) неоисторизм XX в. и 5) постисторизм конца XX – начала XXI в. [2, с. 240].
1. Мифологический историзм.
Время рождается и проявляется в мифологическом сознании неявно, оно структурно вплетено в мифологический рассказ-нарратив, но прообраз истории, историчности здесь уже присутствует [3, с. 117–118]. Рассказ как последовательное повествование о взаимосвязанных собы- тиях имеет структуру времени, наполненного событиями, то есть зафиксированными действиями, предполагающими наличие как наблюдателя, так и рассказчика. Речь, однако, идет не столько о рассказе, сколько о мифе. Самоидентификация мифа осуществляется не столько через его содержание, сколько в самом акте рассказывания, единстве рассказа-сказа и ритуала, сопровождающего рассказ и являющегося его неотъемлемой частью. Структура и функция в мифе доминируют над конкретным сюжетом и персонажем, обнажая «безвременность» мифа. В мифологической доисторичности не существует ни субъекта действия (героя), ни формы, ни фиксации, ни оценки действия, то есть актов, превращающих действие в историческое событие.
2. Традиционный историзм.
Здесь доминирует народное историческое сознание, становящееся и развивающееся как преодоление мифопоэтической картины мира, как ее отрицание, говоря гегелевским языком. Возникает идеологический историзм, который, правда, опирается на мифологическое и религиозное мировоззрение. Время, хотя и начинает мыслиться единым и объективным, предельно замедленно, спонтанно дискретно. Этап традиционного историзма для европейского исторического сознания имеет смысл дополнительно разделить, условно говоря, на эпический, античный и средневековый периоды.
2.1. Эпический историзм.
2.2. Античный историзм.
2.3. Средневековый историзм.
3. Классический историзм.
4. Неоисторизм (неклассический историзм).
5. Постисторизм (постклассика).
В эпический период разложение мифологического сознания создает условия появления собственно истории: письменность, государство, теоретическое знание. Событие прошлого должно быть отмечено, зафиксировано, то есть оформлено, записано, помещено в систему общественного сознания. В эпосе уже просматриваются зачатки временно̀ го и исторического сознания [4] и, по сути, формируются его основы. Правда, историческая идеология первых государственных образований все еще носит религиозно-мифологический характер: не просто власть как институт имеет божественное происхождение, но и сам властитель как ее носитель и олицетворение является богом (полубогом) либо потомком бога. Тогда же возникают первые своеобразные концепции историзма [5].
Зачатки рационального исторического сознания, появляющиеся в этот период, связаны прежде всего с возникновением и функционированием такого института, как полис. Утверждаются естественные принципы и законы как пока еще самые простые зафиксированные в общественном сознании социально-исторические зависимости и связи. В этот период расцвета и начала разложения классического полиса появляется «История» – еще в значении «исследование», «наука» – Геродота, который открывает новый жанр повествования, отличающийся особым вниманием к фактам, организованным, однако, довольно хаотично [6, с. 18–26]. Уже Фукидид отказывается от религиозно-мифологических объяснений в истории, поскольку, с его точки зрения, социальное бытие во времени творят люди, а человеческая природа неизменна. В трудах римских историков появляется глобально-имперское мировоззрение – Pax Romana. Их методологические принципы оставались теми же, что у греков; как и у греков, здесь почти отсутствует критика источников, а все та же неизменная человеческая природа по-прежнему служит основой исторического объяснения.
Средневековое теоцентристское монотеистическое мировоззрение определяет трансцендентное измерение истории, постоянно сопоставляя ее как временную длительность с божественной вечностью. За счет этого историческое сознание серьезно модифицируется: уже в трудах Августина появляется абстрактно-философское объяснение и обобщение фактов, цикличное историческое время античности становится линейным, формулируется глобальная хронология и периодизация [7, с. 49–56; 8, с. 91–98]. Своеобразной платой за модернизацию стали воскрешение мистицизма и провиденциализма и сопутствующая им деградация научности.
Модернизация традиционного историзма начинается с устранения священно-мистического основания истории в эпохи Возрождения и Просвещения. С одной стороны, ренессансные гуманисты, а позднее и просветители вернулись к пониманию истории как результата деятельности великих людей. С другой стороны, появляется и развивается социально-исторический критицизм, подкрепляемый практикой критического анализа источников. Последняя придала историческому исследованию научный статус. Доминирует идея прогресса: человеческой природы, разума и чувственности. Именно она составляет основу истории и ее рациональных интерпретаций. Важнейшими явлениями Нового времени стали гегелевская и марксистская системы философии истории, а также исследования французских и немецких историков XIX в. История была понята и представлена как единый процесс общественного развития, сущность которого заключается в нем самом. Однако господствовавшая во второй половине XIX в. позитивистская методология принципиально отказалась как от поисков подобной основы («сущности») истории, так и от любых форм ее конструирования [9, с. 122–128]. Поэтому единство истории обеспечивалось вполне традиционными методами: через понимание ее как последовательности событий и фактов. Назрел «кризис события» [10, с. 114–130].
Преодоление этого кризиса произошло на новом этапе модернизации историзма. С этого начинается разрушение классического исторического сознания и его трансформация в неклассическое. Указанная модернизация была прежде всего связана со Школой «Анналов», в рамках которой были радикально поставлены проблемы исторического синтеза и ментальности в истории. История понимается не как цепь событий, а как комплекс проблем, поэтому, во-первых, историк должен оперировать прежде всего историческими структурами и целостностями, во-вторых, изучаемая эпоха должна рассматриваться в контексте всех факторов. Историк начинает работу с исследования среды, условий, в которых жили люди, средств коммуникации, состояния техники, плотности населения, продолжительности жизни и т. д., а заканчивает изучением искусства, философии и политики. Системное единство различных уровней и слоев истории обеспечивается ментальностью – универсальным связующим звеном между социальной и духовной историей. Важным инструментом исследования является анализ языка источников, изменений значений слов, семантических сдвигов и т. д. [11, с. 60–62]. Покинуть пределы своей ментальной культуры невозможно. Историк в поисках указанной обусловленности, таким образом, приходит к объективности в познании истории.
Появление постисторизма тесно связано с постструктурализмом и постмодернизмом. Постисторизм отказывается от «больших нарративов» в пользу микроистории, частично продолжая традицию неоисторизма ХХ в. При этом работа историка сближается с работой писателя (автора нарратива, рассказчика), а сама история (history) – с анекдотом в его традиционном понимании (story). Историческое повествование становится поэтическим и метафорическим, а в перспективе даже мифопоэтическим [12]. Проблема объективности здесь как таковая не ставится, да и не может быть поставлена, поскольку исторический текст становится не повествованием о фактах (хотя отдельные «пропозиции» могут сохранять эту черту и даже характеризоваться с точки зрения классической корреспондентной концепции истины), а «рассказом», который не может и не должен соотноситься с каким-либо объектом и иметь объективное содержание. Историк не столько описывает прошлое («как оно было на самом деле»), сколько конструирует смысловое пространство текста.
Таким образом, историческое сознание в рамках собственной модернизации делает своеобразный круг – от классического мифа оно вновь возвращается к мифопоэтическому пониманию прошлого, от попыток представить прошлое как реально существующий, пусть и весьма своеобразный, объект к метафорическому конструированию прошлого в настоящем.
Ссылки:
-
1. Счастливцев Р.А. Эволюция историзма и формирование исторического сознания // Преподаватель XXI век. 2015. Т. 2, № 1. С. 235–241.
-
2. Там же. С. 240.
-
3. Кассирер Э. Философия символических форм : в 3 т. Т. 2. Мифологическое мышление. М. ; СПб., 2002.
-
4. Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977.
-
5. Там же.
-
6. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / пер. и коммент. Ю.А. Асеева. М., 1980.
-
7. Там же. С. 49–56.
-
8. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1979.
-
9. Рикер П. Время и рассказ / пер. Т.В. Славко. М., 2000.
-
10. Там же. С. 114–130.
-
11. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
-
12. См., например: Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаев. М., 2003.
Список литературы Этапы модернизации исторического сознания
- Счастливцев Р.А. Эволюция историзма и формирование исторического сознания//Преподаватель XXI век. 2015. Т. 2, № 1. С. 235-241.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. Т. 2. Мифологическое мышление. М.; СПб., 2002.
- Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977.
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография/пер. и коммент. Ю.А. Асеева. М., 1980.
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1979.
- Рикер П. Время и рассказ/пер. Т.В. Славко. М., 2000.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
- Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры/пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаев. М., 2003.