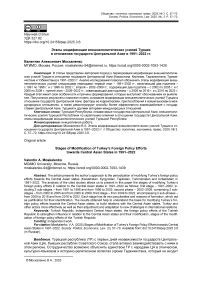Этапы модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении государств Центральной Азии в 1991–2022 гг
Автор: Москаленко В.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен авторский подход к периодизации модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении государств Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) в 1991-2022 гг. Анализ исследований позволил обозначить этапы модификации внешнеполитических усилий следующими периодами: первый этап - 1991-2002 гг., включающий два подэтапа - с 1991 по 1996 г. и с 1996 по 2002 г.; второй - 2002-2009 гг., содержащий два подэтапа - с 2002 по 2005 г. и с 2005 по 2009 г.; третий этап - 2009-2022 гг., охватывающий два подэтапа - с 2009 по 2016 г. и с 2016 по 2022 г. Каждый этап имеет свои особенности и причины формирования, которые выступают обоснованием их выявления. Полученные результаты помогают понять основания модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении государств Центральной Азии, факторы ее корректировки, приспособления к новым вызовам в международных отношениях, а также демонстрируют способы более эффективного взаимодействия с государствами Центральной Азии, Турцией и другими акторами международных отношений.
Турецкая республика, независимые государства центральной азии, внешнеполитические усилия турецкой республики по укреплению влияния в отношении государств центральной азии, этапы модификации внешнеполитических усилий турецкой республики
Короткий адрес: https://sciup.org/149148067
IDR: 149148067 | УДК: 327.82 | DOI: 10.24158/pep.2025.3.6
Текст научной статьи Этапы модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении государств Центральной Азии в 1991–2022 гг
МГИМО, Москва, Россия, ,
,
в тюркоязычную группу народов). За более чем 30 лет – с 1991 по 2022 г. – это сотрудничество имело разнообразное содержание и разный темп осуществления. Менялся и его характер со стороны ТР – от помощи в различных сферах, формирования образа «старшего брата», паритетных отношений и до усиления авторитаризма.
В данном исследовании поставлена цель выявить этапы модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. Исследовательский вопрос заключается в определении и объяснении периодизации модификации данных усилий.
В качестве методов исследования выступили общенаучный подход к определению периодизации внешней политики; метод сравнительного анализа внешнеполитических концепций ТР и государств ЦА; анализ этапов модификации внешнеполитических действий ТР в обозначенном регионе в 1991–2022 гг.
В качестве материалов исследования использованы международные соглашения между ТР и странами ЦА за 1991–2022 гг., документы существующих и вновь создаваемых объединений, блоков, союзов, ассоциаций различной направленности ТР и государств Центральной Азии. Все данные взяты из открытых источников1, также задействованы аналитические материалы турецких политологов (Yazıcı, 2003).
Основная часть . Этапы модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. взаимосвязаны и опосредованы эволюцией всей внешней политики ТР в этот временной промежуток.
И.И. Иванова выделяет следующие этапы развития внешней политики Турции: «1) 1918– 1920 гг. – период после окончания Первой мировой войны, создание Великого национального собрания Турции (ВНСТ), стремление турок официально закрепить итоги борьбы за независимость; 2) 1920–1923 гг. – период от национально-освободительной борьбы и попыток достижения мира до подписания Лозаннского мирного договора; 3) 1923–1930 гг. – период от подписания Лозаннского мирного договора до нормализации отношений с Западом, причем в этот период основное внимание придавалось отношениям с СССР; 4) 1930–1939 гг. – период перехода к союзническим отношениям с Западом; 5) 1939–1945 гг. – период Второй мировой войны; 6) период после окончания Второй мировой войны»; затем временной промежуток «в ближневосточной политике Турции в 1918–1948 гг. подразделяется на следующие периоды: 1) 1918–1923 гг. – период взаимодействия с ближневосточными странами в годы завоевания независимости Турции; 2) 1923–1945 гг. – отход от ближневосточного и исламского мира, сближение с Западом; 3) послевоенный период: тенденция сближения со странами Ближнего Востока; следование внешнеполитической доктрине “между Востоком и Западом”» (Иванова, 2019б: 9).
По мнению А.А. Ирхина, «внешняя политика умеренных исламистов за этот период прошла ряд этапов в своей эволюции: 1. 2002–2005 гг.: этот период может быть отнесен к первому этапу их правления, когда руководство Партии справедливости и развития <ПСР> по инерции воспроизводило предшествующий курс с медленным поворотом на Восток и переводом политики на цивилизационные рельсы развития. 2. 2005–2016 гг.: этап активного разворота в сторону реализации более независимой региональной внешней политики и реализации идей “Стратегической глубины”. 3. 2016 г. – до настоящего времени: официальный отход от принципов “Стратегической глубины” в сторону более жестких методов реализации своих национальных интересов в регионе» (2019: 144). Кроме этапов, А.А. Ирхин выделяет два уровня внешней политики ТР: «верхний этаж – глобальный, где Турция ориентируется на США и на свои союзнические обязательства. Анкара на этом уровне своей внешней политики полностью поддерживает мир “по-американски”. Нижний – региональный, где Анкара пытается реализовать свои собственные региональные интересы и проекты, которые могут противоречить современным интересам Вашингтона» (2019: 145).
В.А. Аватков отмечает, что «современный внешнеполитический курс Турции, как правило, делят на два периода: прозападный, отличительной особенностью которого было стремление Турции к поиску контактов с Западом, в особенности с США, и приверженность демократическим и западным ценностям; современный этап, который характеризуется отходом от упомянутых прозападных принципов»2.
-
З . Элдем считает, что в «развитии внешней политики Турции от основания республики до настоящего дня можно выделить три периода. Первый период охватывает 1923–1990 гг. Этот же период включает в себя время правления Ататюрка и период развития после его смерти вплоть до 1990 г. Второй период длится с 1990 по 2002 г. Третий период наступает после 2002 г.» (2010: 55).
Ф.Л. Гумаров показывает, что «турецкая политика в отношении тюркоязычных государств в своем развитии прошла несколько этапов. Чрезмерно амбициозной политике 1990-х гг. с элементами пантюркизма и попытками реализовать свой политический интеграционный проект на основе тюркской идентичности пришел на смену новый этап, основанный на прагматизме и доб-рососедстве»1.
Отталкиваясь от приведенных мнений специалистов и результатов собственного исследования (Москаленко, 2016, 2018, 2020, 2024), можно представить этапы модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. следующим образом:
-
– первый : 1991–2002 гг., включающий два подэтапа – с 1991 по 1996 г. и с 1996 по 2002 г.;
-
– второй : 2002–2009 гг., содержащий два подэтапа – с 2002 по 2005 г. и с 2005 по 2009 г.;
-
– третий : 2009–2022 гг., включающий два подэтапа – с 2009 по 2016 г. и с 2016 по 2022 г. Охарактеризуем каждый этап.
Результаты . Первый этап модификации внешнеполитических усилий Турции в отношении стран Центральной Азии в 1991–2022 гг. начинается датами признания ТР независимых государств ЦА в 1991 г. Первые 5 лет Турецкая Республика пыталась перенести турецкую модель светского государства в Центральную Азию2 (Türk Dış Politikası. Vol. 2, 2001).
Интенсивная деятельность велась Турцией в плане заключения дву- и многосторонних договоров. Именно эти 5 лет стали самым активным периодом встреч на высшем уровне (государственных и официальных визитов), конференций, обсуждались и планировались совместные проекты во многих областях жизнедеятельности в Центральной Азии:
-
– финансовой: инвестиционные проекты;
-
– военной: стажировки военнослужащих государств ЦА в турецких военно-учебных центрах;
-
– образовательной: обмен студентов и преподавателей, в том числе грантовая поддержка стажировок в турецких университетах;
-
– культурно-религиозной: встречи и конференции религиозных деятелей (мусульман), специалистов-тюркологов, создание турецких теле- и радиоканалов для народов ЦА;
-
– транспортной: компания «Турецкие авиалинии» запустила прямые рейсы из Стамбула в столицы стран Центральной Азии (Шлыков, 2017: 60).
Премьер-министры и президенты Турции, руководившие страной в 1991–1996 гг., активно посещали государства ЦА в эти годы и видели в них возможность реализации идей евразийства и Евразии (Сулейман Демирель), провозглашения XXI столетия «веком тюрок» (Тургут Озал), возрождения и эволюции турецкого пантюркизма, вновь ставшего в 1990-е гг. влиятельной национальной идеологией (лидер турецкой Партии националистического действия Альпарслан Тюр-кеш оказывал явное влияние на формулирование официальной политики Анкары в Центральной Азии) (Шлыков, 2017: 60).
Резюмируя, можно отметить, что в период 1991–1996 гг. тюркизм (а по мнению многих исследователей, пантюркизм) играл ключевую роль в политике Турции в отношении государств ЦА как более мягкая и мирная идеология, ориентирующаяся прежде всего на духовное и культурное единство тюрок и тюркского мира, как более прагматическое направление политики в форме выражения региональных притязаний и амбиций в сфере экономики, политики и культуры. При этом тюркизм (или пантюркизм) был туркоцентричен (Аватков, 2014: 76).
В этот период ТР ориентировала свой внешнеполитический курс на установление тесных и значимых политических, экономических и гуманитарных отношений с государствами ЦА, тем более что мотивировали на это сотрудничество языковое, культурное, религиозное сходство и общее историческое прошлое. Но характер этого курса был амбициозным (Гарбузарова, 2022: 18).
С первых дней сотрудничества с государствами ЦА Турция выстраивала отношения с помощью инструмента «мягкой силы» (от англ. soft power), или «мягкой власти» (Най, 2004), которая понимается как форма политической власти, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности в отличие от «жесткой силы», подразумевающей принуждение. В Центрально-Азиатском регионе Турция понимала «мягкую силу» как выступление в качестве актора и мотиватора политических и социально-эконо- мических процессов. Главными проводниками «мягкой силы» являлись язык, образование, культура и религия, которые играли ключевые роли во внешней политике, дипломатии и бизнесе (Зубкова, 2015; Надеин-Раевский, 2016). Но отметим, что основной акцент был сделан на сотрудничестве и развитии дружественных отношений с центральноазиатскими государствами как представителями одного тюркского народа и одной религии – ислама. Поэтому в турецкой политической среде появилось такое понятие, как новый стиль дипломатии, означавшее выдвижение на первый план не военной силы Турции, а ее гражданско-экономической мощи и «мягкой силы» в качестве главного механизма политики1, или, по выражению А. Давутоглу, «невидимой силы», которую он связывал с дипломатическим и посредническим успехом страны (Алиева, 2014).
Таким образом, влияние ТР в Центрально-Азиатском регионе осуществлялось по алгоритму использования «мягкой силы», языка и культуры в целях установления взаимовыгодных внешнеполитических и экономических отношений с этими странами. Турция имеет большой потенциал для подобного рода деятельности (Москаленко, 2021).
В результате применения инструментов «мягкой силы» в Центрально-Азиатском регионе Турция стремилась стать лидером тюркского мира, и наиболее радикальные турецкие националисты были уверены, что все тюрки должны объединиться с Турцией и жить по турецким правилам. Однако страны ЦА не согласились с таким подходом в межгосударственных отношениях. Поэтому далее произошло расхождение в совместной деятельности Турции и центральноазиатских государств.
Важно отметить, что ТР в первый подэтап первого этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в 1991–2022 гг. поддержала государства ЦА поставками продовольствия и других потребительских товаров в качестве гуманитарной помощи и приступила к модернизации систем коммуникации и транспорта тюркских республик. Турция сыграла существенную роль в развитии рыночной экономики в регионе (Турция в период правления…, 2012: 89). Активно работали турецкие подрядные компании по строительству и реконструкции инфраструктурных сооружений (дорог, аэропортов, гидроустановок и т. д.), административных зданий, промышленных предприятий, банков, торговых и учебных центров, посольств, высококлассных гостиниц (Уразова, 2010). Турецкие крупные компании, малые и средние фирмы открыли в Центральной Азии свои представительства в отраслях легкой и обрабатывающей промышленности, ориентированные на использование местного сырья, а также магазины, предприятия сферы услуг. Кроме того, ТР оказала помощь в преобразовании налоговых и кредитно-банковских систем. В 1993 г. при финансовой и кадровой поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Анкаре был открыт образовательный центр по налогообложению, а в 1994 г. была начата реализация программы обучения банковскому делу. В Стамбуле, также при участии ОЭСР, в 1994 г. был создан центр по развитию частного предпринимательства. Но этого было недостаточно, так как не решалась проблема собственной финансовой деятельности государств ЦА.
1996 год в исследовании модификации внешнеполитических усилий в 1991–2022 гг. представляет собой одну из важных реперных точек вследствие переоценки центральноазиатского вектора внешней политики ТР. Одна из причин – это ограниченность ресурсов Турции – как политических, так и экономических. В 1994 и 1995 гг. после победы Партии благоденствия активизировались кемалисты, которые практически победили в 1998 г. В результате внутриполитической борьбы стране не хватало политических и экономических возможностей для осуществления проектов в Центральной Азии. Отметим и влияние экономического кризиса 1994 г. в ТР.
Таким образом, промежуток 1991–1996 гг. в модификации внешнеполитических усилий можно описать как период активного и динамичного сотрудничества Турции с государствами ЦА по ценностным (или идейно-ценностным (В.А. Аватков2)) (культурно-психологическая предрасположенность как турков, так и народов ЦА к сотрудничеству, базирующемуся на религиозноязыковом и историко-этнографическом единстве) и прагматическим (традиционные геополитические задачи повысить значение Турции в глазах Запада и создать сферы влияния в регионе на базе тесных связей с независимыми тюркскими республиками (Шлыков, 2017: 60)) направлениям. При этом идейно-ценностное направление превалировало над прагматическим. Важно отметить главную роль ТР в эти годы в формировании и поддержке политического статуса государств ЦА в региональных и международных организациях.
Второй подэтап первого этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это 1996–2002 гг. Изменения в его рамках произошли по пяти причинам.
Первая причина – трансформация политики Турции в рассматриваемом регионе во второй половине 90-х гг. ХХ в. была продиктована и позицией самих государств ЦА в отношении ТР . Имея опыт деятельности в Советском Союзе, они не имели практики самостоятельного построения демократического общества, а к 1996 г. уже получили опыт сотрудничества с Турцией, который не совсем устраивал руководство стран Центральной Азии по разным причинам. Так, например, Узбекистан после турецко-узбекского кризиса 1993 г. из-за укрывательства узбекского оппозиционера М. Салиха в Турции самостоятельно решил строить демократию в стране, а не реализовывать навязанную турецкую модель. Но при этом исламское влияние ТР усиливалось в Узбекистане. Вторая фаза кризиса турецко-узбекских отношений в 1999 г. после террористических актов в Ташкенте привела к закрытию турецких школ и проблемам турецкого бизнеса в Узбекистане. Однако в октябре 2000 г. во время официального визита президента ТР А. Сезара в Узбекистан были подписаны соглашения о сотрудничестве в военной сфере и области борьбы с терроризмом.
Вторая причина – активизация РФ в Центрально-Азиатском регионе, что также повлияло на отношения ТР с государствами ЦА. Во второй половине 90-х гг. ХХ в. развивалось сотрудничество России с ближним зарубежьем. По мнению П.В. Шлыкова, турецкая модель оказалась «существенно слабее российского влияния на регион» (2017: 63). Однако на этом фоне отметим, что ТР в этот период упрочила связи с отдельными государствами ЦА в военном секторе: с Киргизией в 2000 г. в результате угрозы международного терроризма (Баткенские события) и Таджикистаном по вопросам участия ТР и стран ЦА в решении афганского вопроса.
Третья причина изменения внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1996 г. – экономическая. Во второй половине 90-х гг. ХХ в. после экономического кризиса 1994 г. и землетрясений 17 августа и 12 ноября 1999 г. Турция не могла выполнить намеченные проекты, требовавшие крупных инвестиций, так как должна была балансировать государственный бюджет и финансировать свои текущие внешние обязательства. По имеющимся данным, общая сумма кредитов, которые Турция предоставила тюркским республикам в Центральной Азии на развитие рыночной экономики с 1992 по 1999 г., составляла лишь около 1,5 млрд долл. (Уразова, 2010). Между тем уже во второй половине 1990-х гг., по экспертным оценкам, потребность тюркских государств во внешних инвестициях достигала 9 млрд долл. ежегодно (Уразова, 2010).
Четвертая причина – идейно-политическая. Во второй половине 90-х гг. ХХ в. с приходом к власти Партии добродетели изменился курс всей внешней политики ТР на проевропейский и проамериканский с провозглашением либеральных ценностей. Центрально-Азиатский регион со слабой экономикой, несмотря на единую исламскую религию и тюркскую этноязыковую общность, в этот период ушел из центра внимания ТР на периферию, второй план внешней политики.
Усиливала эту тенденцию и дискуссия в турецком обществе о понимании евразийства. С 1996 г. вплоть до 2002 г. в политической среде страны наблюдалась полемика о понимании евразийства и роли государств ЦА в этом процессе с позиций левого национализма, антиимпериализма и кемализма членов Демократической левой партии Бюлента Эджевита как основной партии коалиционных правительств 1999–2002 гг. (Шлыков, 2017: 64).
Пятая причина – сближение ТР с РФ. В эти годы акцентировалось внимание на экономических и энергетических направлениях сотрудничества Турции и России (1997 г. – визит премьер-министра РФ В.С. Черномырдина в ТР и соглашение о прокладке газопровода по дну Черного моря – «Голубой поток»).
Разворот Турецкой Республики в сторону РФ привел к тому, что в 2001 г. руководитель МИД Исмаил Джем предложил создать стратегическое партнерство двух стран в Центральной Азии для совместной работы в области региональной безопасности (Шлыков, 2017: 64). Это обусловило изменение политики Турции в отношении государств ЦА. Идея «евразийского союза» России и Турции активно развивалась до 2002 года, который стал новой реперной точкой в эволюции политики ТР в отношении государств ЦА с приходом к власти ПСР.
В результате исследователи выделяют факторы перехода от амбициозного характера внешней политики ТР по отношению к странам Центральной Азии к более реалистичному: отсутствие достаточных ресурсов, нежелание государств региона отказаться от суверенитета в обмен на турецкую внешнюю модель. К этим причинам Е.Г. Гарбузарова добавляет еще один фактор влияния на внешнюю политику Турции в этот период: «сдерживание РФ и КНР геополитических амбиций ТР в Центрально-Азиатском регионе» (2022: 25). Нужно отметить, что появились и другие акторы в первую очередь экономического сотрудничества с государствами ЦА – это Исламская Республика Иран, Саудовская Аравия, Япония и др.
В этот период отношения ограничились даже с братским народом Туркменистана, по словам первого президента С. Ниязова, «Туркменистан и Турция – два государства, но одна нация»
(Гарбузарова, 2022: 65). В 1999 г. ТР, реализуя евразийскую энергетическую политику, подписала договор о покупке туркменского природного газа. Но проект был остановлен не только по причине демаркации Каспийского моря среди прибрежных государств, но и вследствие авторитарного политического режима Туркменистана (Гарбузарова, 2022).
Следовательно, в 1996–2002 гг. изменились характер и направления внешнеполитической деятельности ТР в отношении государств ЦА на более сдержанный и реалистичный, но при этом их сотрудничество оставалось на достаточном уровне. Это подтверждается количеством визитов руководителей Турции и стран ЦА, а также заключенными соглашениями и продолжением работы над некоторыми совместными проектами.
Таким образом, временной промежуток 1996–2002 гг. в модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. можно обозначить как период приоритета прагматического направления взаимодействия и менее интенсивного сотрудничества ТР с государствами ЦА по направлениям, которые были начаты в 1991–1995 гг., при этом акцент сделан на религиозное и образовательное сотрудничество.
Отметим, что первый этап (1991–2002 гг.) развития внешнеполитических усилий ТР в регионе был самым интенсивным в плане становления института сотрудничества как в идейно-ценностном направлении, так и в прагматическом. При этом Турция пыталась стать «старшим братом» по отношению к странам ЦА и навязать свою модель светского и умеренного мусульманского государства – сочетания светского государства, конституционного строя и правительства, возглавляемого политической партией с корнями в политическом исламе, чего не удалось достичь в первую очередь из-за нежелания центральноазиатских партнеров занимать такую позицию. Последние сами пытались претендовать на роль центров притяжения в Центрально-Азиатском регионе и занимать престижные места в мировой иерархии.
Второй этап модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. начался в 2002 г., когда в ходе парламентских выборов победила ПСР, в результате чего изменилась внешне- и внутриполитическая деятельность Турции, и продолжался до 2009 г., когда 1 мая А. Давутоглу был назначен на пост министра иностранных дел и стал активно реализовывать новый курс внешней политики, изложенный в опубликованной в 2001 г. монографии «Стратегическая глубина. Международное положение Турции» (Davutoğlu, 2003).
Этот этап также возможно поделить на два подэтапа.
Первый подэтап второго этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это 2002–2005 гг. , период воспроизведения предшествующей политики Турции «с медленным поворотом на Восток и переводом политики на цивилизационные рельсы развития» (Ирхин, 2019: 144). Также первый подэтап совпадает с описанием И.Г. Саетова первого этапа трансформации турецкой ПСР – «рождение и политическое взросление (2001–2007 гг.)» (2017: 14).
В эти годы правительство ТР выбрало в качестве главного направления переговоры о вступлении в ЕС (Oran, Ünsal, 2013). Также продолжилось сближение с РФ. После визита президента В.В. Путина в Анкару 5–6 декабря 2004 г. и встречи с президентом Турции А.Н. Сезером был провозглашен новый уровень российско-турецких отношений – «многопланового стратегического партнерства» (Шлыков, 2017: 66).
Изменилось положение самой Турции в экономико-финансовой сфере благодаря деятельности ПСР, которая в своей программе указала на неудовлетворительные результаты торговоэкономического сотрудничества с государствами Центральной Азии и Кавказа и намерения правительства приложить усилия для его дальнейшего развития. Это подтвердилось в официальных визитах премьера-министра Турции Р.Т. Эрдогана с большой турецкой делегацией с 7 по 11 января 2003 г. в столицы Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Со стороны ТР было предложено усилить двустороннее сотрудничество, что государства ЦА поддержали. В 2003 г. были обновлены старые и заключены новые дву- и многосторонние межправительственные соглашения о торгово-экономическом, культурном и военном сотрудничестве, о совместных проектах, инвестициях и т. д. Особое внимание уделялось подведению прочной правовой базы под двустороннюю торговую и инвестиционную деятельность, осуществлена унификация законодательства в соответствии со стандартами Евросоюза, адаптированного Турцией после вступления в 1996 г. в Таможенный союз ЕС и получения в 1999 г. статуса страны-кандидата (Уразова, 2010: 159).
В апреле 2003 г. состоялся саммит президентов торговых и промышленных палат государств ЦА и Кавказа, на котором с программной речью выступил премьер-министр Р.Т. Эрдоган. Он провозгласил цель сотрудничества со странами Центральной Азии и Кавказа – превратить турецко-центральноазиатские и турецко-кавказские отношения в стабильные и долгосрочные, ликвидировать все преграды при взаимодействии, модифицировать характер отношений с ориентацией на долгосрочность и перспективу, охватить совместными проектами все отрасли жизнедеятельности народов и стран.
На саммите было принято решение о создании региональной структуры – Объединения торговых и промышленных палат Евразии, задачи по ее организации были возложены на торгово-промышленные палаты и биржи Турции. Новая структура презентовалась как важный организационный и координационный центр по содействию интеграционным процессам в Центральной Азии и на Кавказе. Со стороны Турции была проведена усиленная политика поддержки своих частных компаний в регионе, укрепления Эксимбанка, который должен был повысить привлекательность региона путем снижения рисков для турецких экспортеров, подрядчиков и инвесторов. В 2007 г. объем предоставленных им кредитов превысил 1 млрд долл. (Уразова, 2010: 160).
В 2005 г. была создана Турецкая конфедерация предпринимателей и промышленников (Türkiye işadamları ve sanayicileri konfederasyonu – TUSKON). Цель этой структуры заключалась в осуществлении многоплановой деятельности, подготовке бизнес-программ с представителями зарубежных государств и регионов преимущественно с переходными экономиками. В сентябре 2006 г. TUSKON провел в Стамбуле международную конференцию по программе «Мост внешней торговли Турция – Евразия», в которой приняли участие бизнесмены ТР и 12 евразийских государств. Итоговое заявление конференции ставило цели перед всем тюркоязычным сообществом – определить наиболее важные задачи внешнеэкономической политики и инвестирования, совместно развивать энергетику, транспортную систему и промышленное производство.
В эти же годы изменилась деятельность Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) путем расширения образовательной и консалтинговой деятельности еще на 25 стран Ближнего Востока, Африки и Балкан. Однако приоритетное значение сохранялось за регионами Центральной Азии и Кавказа. Принятые меры привели к заметному оживлению торгово-экономических связей ТР с государствами ЦА и Кавказского региона. Возросли объемы товарооборота, который в 2006 г. превысил 4 млрд долл., что было в 3,8 раза больше, чем в 2002 г. (Уразова, 2010).
На политике ТР в отношении государств ЦА сказалась и существовавшая в эти годы полемика о понимании евразийства и неоевразийства в турецком и российском политическом сообществе (А.Г. Дугин (Dugin, 2003), В. Иманов (Imanov, 2008: 328–334)), негативная оценка со стороны светски ориентированной политической элиты центральноазиатских стран создания и постоянного расширения сети учебных заведений в регионе под эгидой движения Ф. Гюлена (гюленовских школ).
Все эти особенности активизировали внешнеполитические усилия ТР в отношении государств ЦА в 2002–2005 гг. по сравнению с предпринимаемыми в последние годы ХХ в. и отражали большие планы сотрудничества со странами региона. Внешнеполитическая деятельность Турции на данном направлении стала более прагматичной, она включала в евроазиатское сотрудничество новых акторов – РФ, Китай, Индию и Иран и была нацелена на принятие страны в ШОС в качестве государства-наблюдателя1.
Таким образом, период 2 002–2005 гг. в модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. можно обозначить как этап расширения сотрудничества за счет появления нового интереса со стороны ПСР к региону, продолжения взаимодействия с новыми субъектами по направлениям, открытым в 1991–2002 гг., развития все более прагматического направления сотрудничества со странами Центральной Азии.
Второй подэтап второго этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это период 2005–2009 гг. Этот период совпадает со вторым этапом трансформации турецкой ПСР – «периодом лидерства 2007–2010 гг.» (Саетов, 2017: 17).
В 2006–2010 гг. ПСР активно реализовывала внешнюю политику, описанную в работе «Стратегическая глубина» А. Давутоглу (Davutoğlu, 2003). Прежде всего это независимая политика в своем регионе – налаживание связей с арабскими партнерами через примирение, а также многовекторность в политике со странами мира (Türk Dış Politikası Yıllığı – 2009, 2010).
Отметим два важных аспекта, касающихся политики ТР в государствах ЦА, в концепции А. Давутоглу. Во-первых, ТР определялась как «центральная страна», т. е. некая точка отсчета, что «предполагает определенную систему геополитических координат, в рамках которой первый концентрический круг охватывает Ближний Восток и Северную Африку, а Центральная Азия отодвигается на второй план» (Шлыков, 2017: 68).
Второй аспект заключается в том, что «макрорегион, для которого Турция должна считаться центральной, Давутоглу обозначает как “Афро-Евразия”. Налицо расширение традиционного представления о Евразии, характерного для предшествующего поколения турецких политиков в 1980-е и 1990-е гг., включавших в него Кавказ и Центральную Азию» (Шлыков, 2017: 69).
Эти аспекты не могли не повлиять на сотрудничество ТР с государствами ЦА в 2005–2009 гг. В этот период по сравнению с первым подэтапом первого этапа эволюции политики Турции в Центральной Азии 1991–1996 гг. значительно сократилось количество международных соглашений и договоров между ТР и государствами ЦА, уменьшилось число взаимных визитов. Но постепенно в рамках этого подэтапа продолжилось возрождение отношений Турции со странами ЦА в результате активной деятельности руководителей Турции и ПСР.
В 2007 г. была проведена вторая конференция «Мост внешней торговли Турция – Евразия», а также «Мост внешней торговли Турция – Казахстан» (TUSKON). Увеличилось число строительных проектов, выполняемых турецкими специалистами в Туркменистане и Казахстане. Экспорт капитала из ТР в Центральную Азию был сравнительно невелик, значительно уступая притоку прямых инвестиций из промышленно развитых стран Запада. Турецкие компании больше всего вкладывали в самые благополучные и богатые природными ресурсами государства региона – Казахстан, Туркмению, Киргизию. Обновлялись и расширялись отношения ТР со всеми независимыми государствами ЦА.
«Таким образом, в 2000-е гг. в Анкаре осознали необходимость пересмотреть политические подходы к странам Центральной Азии. Ставка была сделана на реализацию более реальных проектов и отказ от чрезмерно амбициозных планов в отношении этих республик» (Иванова, 2019а: 41). Отметим, что успех турецких экономических реформ в этот период показал справедливость отказа руководства ТР от государственного патернализма в экономике и создания либеральной рыночной структуры (Стародубцев, 2020), что могло бы стать примером для государств ЦА.
Таким образом, период 2005–2009 гг. в модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. можно обозначить как период расширения сотрудничества Турции со всеми странами Центральной Азии, кроме Узбекистана, за счет реализации намеченных в 2002–2005 гг. планов, активизации деятельности ПСР в данном направлении, развития и обновления все более взаимовыгодного прагматического вектора взаимодействия в рассматриваемом регионе.
Резюмируя, можно отметить, что второй этап показал возрождение интереса со стороны Турции и ПСР к Центральной Азии и сотрудничеству с ними на обновленной прагматической базе многостороннего взаимовыгодного сотрудничества. В это сотрудничество были вовлечены новые субъекты, взаимодействие имело прагматический характер, хотя идеи единого тюркского мира оставались в приоритете как в турецко-центральноазиатском диалоге, так и на международной арене. Турецко-центральноазиатское сотрудничество становилось все более прагматичным и формировалось под запрос со стороны стран ЦА.
В рамках этого сотрудничества ТР демонстрировала позитивный имидж надежного партнера для государств Центральной Азии, готового сообразно своим возможностям оказывать содействие на трудном переходе к демократическому переустройству и созданию полнокровной рыночной экономики. При этом для стран ЕС и США Турция позиционировала себя как «мост» в торговом, транспортном, энергетическом и других аспектах, существенно укрепляя таким образом свое региональное и глобальное влияние, что и декларировалось во внешнеполитической концепции ПСР (Уразова, 2010: 166).
Третий этап модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это период 2009–2022 гг. , включающий два подэтапа: с 2009 по 2016 г. и с 2016 по 2022 г. Отметим, что с 2020 г. в результате пандемии COVID-191 были прекращены социально-экономические и внешнеполитические взаимодействия между странами, очные встречи на международном уровне, в том числе ограничено до минимального – нулевого – уровня сотрудничество представителей Турции с коллегами в Центральной Азии. Об этом говорят данные официальных визитов государственных деятелей ТР и государств ЦА, количество заключенных межгосударственных договоров (в 2020 г. – 0, 2021 – 2, 2022 г. – 4).
Первый подэтап третьего этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг. – это период 2009–2016 гг . – годы активной реализации внешней политики министром иностранных дел А. Давутоглу. 28 августа 2014 г. он стал премьер-министром, в это же время Р.Т. Эрдоган – президентом Турции (Türk Dış Politikası Yıllığı – 2010, 2011; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2011, 2012; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2012, 2013; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2013, 2014; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2014, 2015; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2015, 2016). Данный подэтап охватывает практически две стадии трансформации турецкой ПСР – частично «период лидерства (2007–2010 гг.)» и «электоральный халифат (2011–2013 гг.)» (Саетов, 2017: 17, 19). И.Г. Саетов отмечает «падение “халифата”» (2013 г. – по настоящее время)» (2017: 23).
Обозначенные годы становятся годами более глубокой реализации проекта «Стратегической глубины» (Аватков, 2023).
Также в этот временной отрезок произошли следующие серьезные события:
-
– истребитель турецких ВВС F-16 сбил российский штурмовик Су-24М недалеко от сирийско-турецкой границы 24 ноября 2015 г.1;
-
– 19 декабря 2016 г. в Анкаре в результате террористического акта на фотовыставке «Россия глазами турецких путешественников: от Калининграда до Камчатки» при исполнении служебных обязанностей погиб чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в ТР А.Г. Карлов2.
Эти события повлияли на кризис в отношениях между Турцией и Россией и опосредованно в разной степени сказались на отношении стран к ТР, в том числе государств ЦА.
Данный подэтап стал периодом активного разворота в сторону проведения ТР более независимой региональной внешней политики, реализации идей «Стратегической глубины» (А. Давутоглу), превращения в мировую державу через снижение зависимости от Запада и западных организаций за счет установления системы балансов – выстраивания отношений с ключевыми странами за пределами Запада и выхода на доминирующие позиции на «постосманском» пространстве. При этом, будучи министром иностранных дел, А. Давутоглу официально осуждал использование термина «неоосманизм» применительно к новому курсу внешней политики Турции.
ТР во главе с Р.Т. Эрдоганом и А. Давутоглу ставила задачу придать внешней политике страны новое качественное измерение: она должна была стать более амбициозной, наступательной и независимой. Анкара больше не ограничивалась стремлением выступать в качестве региональной силы: теперь предстояло превратить страну в силу, влияющую на характер международного развития, для чего требовалось, вооружившись региональным и глобальным видением, отказаться от обороняющейся позиции страны, реагирующей на международные кризисы (Внешняя политика Турции…, 2023; Ульченко, 2015: 223).
В результате идеи пантюркизма, исламизма и в целом неоосманизма стали с новой силой разворачиваться в политике ТР в отношении государств ЦА, подразумевая туркоцентричность (Аватков, 2014: 76). Эти идеи «накладывают свой отпечаток на внешнеполитическую стратегию Турецкой Республики и в несколько измененном виде используются ею для продвижения собственных интересов в государствах “тюркского мира”» (Аватков, 2014). Это по-разному воспринималось политическими элитами стран Центральной Азии уже спустя почти два десятка лет сотрудничества с Турцией.
В 2010 г. ПСР при подготовке к референдуму по Конституции Турции разработала концепт «Новой Турции» (Yeni Tükiye), в котором была поставлена задача к 2023 г. добиться регионального превосходства по ряду направлений и превратить Турцию в «самостоятельную, влиятельную и глобальную силу» (Внешняя политика Турции…, 2023: 5).
По отношению к независимым государствам ЦА ТР проводила активную политику, но с определенными ограничениями. «В 2000-е гг. в Анкаре осознали необходимость пересмотреть политические подходы к странам Центральной Азии. Ставка была сделана на реализацию более реальных проектов и на отказ от чрезмерных амбициозных планов в отношении этих республик» (Иванова, 2019а: 44).
Сотрудничество возможно только с теми государствами ЦА, которые не только проявляют активность по отношению к ТР, но и имеют различные ресурсы. Так, например, Республика Казахстан в 2012 г. заключила соглашение о создании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня с ТР во время официального визита премьер-министра Р.Т. Эрдогана в Казахстан. Это предполагало решение задач как в политическом, так и в прагматическом аспектах посредством многопланового сотрудничества в различных сферах – промышленной (создание в Казахстане промышленной зоны с турецкими финансированием), торгово-экономической, инфраструктурной (соединение железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран с Турцией), транспортно-логистической и др. (Гарбузарова, 2022: 45–47). ТР продолжала активно сотрудничать со всеми государствами ЦА, кроме Узбекистана, с которым напряженные отношения сохранялись до 2016 г.3 (Гар-бузарова, 2022: 64).
Это доказывало следующее. Во-первых, Турция является не просто страной на пространстве Ближнего Востока, а государством с ярко выраженным потенциалом самостоятельного развития, в том числе в роли не только регионального, но и мирового лидера1. Во-вторых, руководство ТР демонстрировало сильную позицию, так как в 2013 г. провозгласило тезис «Мир больше пяти» (с отсылкой к пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН), стремясь занять активную позицию центра мирового геополитического влияния, меняя характер внешнеполитической деятельности на более ответственную, самостоятельную и многовекторную, становясь «здоровым человеком Европы» (Киреев, 2012: 344). «От Балкан до Кавказа Турция проводит внешнюю политику, ориентируемую на будущее. Ее цель – “ноль проблем, неограниченная торговля”. С 61 страной Турция имеет безвизовый режим» (Киреев, 2012: 344).
Подводя итог этому подэтапу модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991–2022 гг., период 2009–2014 гг. можно охарактеризовать как время взаимовыгодного многостороннего эффективного сотрудничества практически со всеми странами Центральной Азии и другими субъектами, пришедшими в регион с экономическими, финансовыми и инвестиционными проектами.
Второй подэтап – это период 2016–2022 гг ., на который приходится деятельность Бинали Йылдырыма в должности премьера-министра ТР (24 мая 2016 г. – 9 июля 2018 г.) при президенте Р.Т. Эрдогане. Отметим, что в 2018 г. пост премьер-министра Турции упразднен. Также эти годы выделяются активным сотрудничеством с РФ после кризиса 2015–2016 гг., что повлияло и на отношения с государствами ЦА2 (Türk Dış Politikası Yıllığı – 2016, 2017; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2017, 2018; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2018, 2019; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2019, 2020; Türk Dış Politikası Yıllığı – 2020, 2021).
Драматичным событием, повлиявшим на внутри- и внешнеполитический курс ТР, стала попытка военного переворота 15–16 июля 2016 г. (Шлыков, 2016). Согласимся с А.А. Ирхиным, что в результате в 2016 г. произошел «официальный отход от принципов “Стратегической глубины” в сторону более жестких методов реализации своих национальных интересов в регионе» (2019: 144).
Кроме того, в эти годы усилился политический имидж ТР как страны-переговорщика после мирных переговоров в Астане в 23–24 января 2017 г., которые были организованы по инициативе России, Турции и Ирана в целях завершения гражданской войны в Сирии. Среди участников были семь делегаций: представители России, Турции, Ирана, США, Организации Объединенных Наций, официального сирийского правительства, а также спикеры вооруженных группировок, оппозиционных по отношению к президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду. Это повлияло и на политику Турции в Центральной Азии. Ее характер стал активным, прагматичным, взаимовыгодным и многосторонним.
Активную политику ТР в отношении Казахстана продемонстрировали в этот период официальный визит премьер-министра Р.Т. Эрдогана в 2017 г. и заключение ряда договоров в сфере развития торговли и инвестиций. 13 сентября 2018 г. Турция и Казахстан подписали Соглашение о дальнейшем развитии долгосрочного военного сотрудничества, которое было ратифицировано в 2019 г. руководством Казахстана, реализован механизм разработки годовых планов по организации военной подготовки и обучению, взаимодействию в оборонной промышленности, исследованиям в военной, научной и технической областях, проведению военных учений, миротворческих операций. Принимая Казахстан как ведущее государство ЦА, можно сделать вывод о тенденции к «милитаризации внешней политики» ТР в отношениях со странами Центральной Азии (Шлыков, 2019: 46).
Отношения Турции с Таджикистаном и Туркменистаном продолжили развиваться в экономическом плане (Гарбузарова, 2022: 64).
В отношениях с Киргизией возникла напряженность после ультиматума в 2016 г. со стороны ТР о прекращении деятельности движения «Хизмет» (образовательных учреждений, финансируемых Ф. Гюленом). Только после смены власти в Киргизии в 2017 г. страны восстановили отношения: в сентябре 2018 г. премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган совершил официальный визит, в рамках которого прошли заседание IV Высшего совета стратегического сотрудничества, киргизско-турецкий бизнес-форум, открытие новой мечети в Бишкеке (на финансирование создания которой ТР выделила 25 млн долл.), закладка капсулы на месте строительства нового здания медицинского факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас», подписание большого пакета соглашений о сотрудничестве в культурной, медицинской, образовательной, социальной, таможенной (безвизовый режим пребывания граждан Киргизии в ТР на протяжении 90 дней и др.) сферах.
Турецко-узбекские отношения в 2016 г. еще улучшились, когда Р.Т. Эрдоган совершил визит в Самарканд, чтобы отдать дань уважения памяти первого президента Узбекистана И. Каримова. Обсуждались вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной, текстильной, кожевенной промышленности, создания инфраструктуры, развития транспортных коммуникаций (маршрут Баку – Ахалкалаки – Карс), возвращения к таможенным послаблениям для граждан Узбекистана, введенным Турцией в 2015 г., а Узбекистаном для граждан ТР – в 2017 г. Улучшение ситуации в турецко-узбекских отношениях отмечено во внешнеполитической концепции Узбекистана – Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики с 2017 по 2021 г.
Обозначенная активность ТР в отношении государств ЦА, как и вся деятельность в своем регионе и за его границами, позволила в 2018 г. лидерам ПСР ввести в политический лексикон термин «сильная Турция» (Güçlü Türkiye). В границах своей территории такая страна должна опираться на сильное правительство (Güçlü Hükümet), а внешнюю политику выстраивать по принципу разумного сочетания инструментов «мягкой» и «жесткой силы» (в соответствии с подходом «умной силы» (Akıllı Güç)), формируя так называемую «ось Турции» (Türkiye Ekseni) на базе качественно новой интерпретации внешнеполитической многовекторности, предполагающей не «смещение оси» (Eksen Kayması) с Запада на Восток, а укрепление сотрудничества с различными странами и их объединениями исключительно в интересах ТР как одного из новых центров силы полицентричного мира (Внешняя политика Турции…, 2023: 5).
Во внешней политике Турция через ПСР демонстрировала следующие новые концепции и идеи: самовосприятие, «Стратегическая глубина», центральное государство, «мягкая сила», «ноль проблем с соседями», экономическая взаимозависимость, историческое наследие, гуманитарная дипломатия, посредничество, энергетический хаб – коридор, страна – модель, проект Большого Ближнего Востока (Геворгян, 2018). Эти концепции показывают, что внешняя политика в отношении государств ЦА меняется в сторону соблюдения экономической взаимозависимости, сохранения общего исторического наследия, гуманитарной дипломатии, оказания посреднических услуг странам ЦА, ЕС, США и др., построения различного рода коридоров (энергетического, транспортного, логистического и др.), в которых Турция может взять на себя роль хаба, так как имеет наилучшее географическое расположение в Европе и Азии, территориально близка к Европе и Африке.
Итогом периода 2016–2022 гг. как второго подэтапа третьего этапа модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА в 1991-2022 гг. можно считать развитие взаимовыгодного многостороннего эффективного сотрудничества практически со всеми центральноазиатскими странами и другими субъектами, пришедшими в регион с торговоэкономическими, финансовыми и инвестиционными проектами. При этом возросла самостоятельность самой Турции в рассматриваемых взаимоотношениях, она стала себя устойчиво презентовать как региональную державу, имеющую международный авторитет, хотя у ТР существовали проблемы как внутренние (экономические и финансовые сложности, вопросы социального развития, курдский вопрос, радикальные сообщества и др.), так и внешние (проблемы с Грецией, Сирией, Ираком, Северным Кипром и др.).
Таким образом, третий этап модификации внешнеполитических усилий ТР в отношении государств ЦА 2009–2022 гг. выступает периодом построения взаимовыгодного многостороннего эффективного сотрудничества практически со всеми странами региона и с другими субъектами, пришедшими в него с торгово-экономическими, финансовыми и инвестиционными проектами . Этот временной промежуток характеризуется достижением успехов не только в социально-религиозной и культурно-образовательной сферах взаимодействия с нациями, имеющими единое историческое прошлое и культурно-религиозно-языковую общность (кроме Таджикистана). В данный период ЦА и ТР сформировали более эффективные направления, методы и формы взаимовыгодного и многостороннего сотрудничества. При этом был сделан важный вывод, что тюркский мир должен не только сотрудничать с государствами тюркских народов, но и объединяться с другими странами в сообщества в целях реализации общих проектов.
Заключение. Внешнеполитические усилия Турции в отношении государств Центральной Азии в 1991–2022 гг. и их развитие нельзя оценивать исходя из дихотомии хорошо – плохо, позитив – негатив. Важно отметить, что Турция первой признала независимость молодых государств ЦА, первой в начале 90-х гг. ХХ в. оказала им помощь в различных сферах жизнедеятельности – гуманитарной, экономической, политической, социальной и др. Значимо и то, что Турция в 1991–2022 гг. осознавала свои неудачи во внешнеполитических действиях по отношению к субъектам ЦА, принимала новые решения по модификации, направленные в основном на улучшение взаимоотношений.
Нельзя не отметить, что при этом Турция и ее руководство практически на всем временном промежутке 1991–2022 гг. пытались утвердить образ страны как «старшего брата» для государств ЦА, берущего на себя руководящую и управляющую роль в Центрально-Азиатском регионе, использовать концепции пантюркизма и исламизма и в целом неоосманизма, внедрить идею туркоцентричности в менталитет народов ЦА.
Характеризуя внешнеполитические усилия Турции в отношении стран Центральной Азии в 1991–2022 гг., можно описать их в первую очередь как сложные и интересные. Предложенная авторская периодизация модификации действий Турции в обозначенном регионе может помочь исследователям в поиске новых зависимостей и реперных точек этих отношений, а также в проведении параллелей с деятельностью других стран в отношении государств ЦА, а также Турции в других регионах мира. Это и составляет перспективы предложенного исследования.