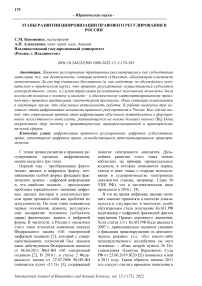Этапы развития цифровизации правового регулирования в России
Автор: Кононенко С.М., Алексеенко А.П.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 12-1 (75), 2022 года.
Бесплатный доступ
Правовое регулирование традиционно рассматривалось как субъективная категория, т.е. как деятельность, которая ведется субъектом, обладающим властными полномочиями. До сих пор считалось бесспорным (и, как следствие, не обсуждалось основательно в юридической науке), что правовое регулирование осуществляется субъектом непосредственно, лично, а случаи трансляции регулятивных полномочий возможны были всегда от человека к человеку и никогда - к обезличенному «автоматизированному производству» правовых предписаний, компьютерной программе. Иная ситуация складывается в настоящее время, что обусловило актуальность работы. В работе выделены три основных этапа цифровизации механизма правового регулирования в России. Был сделан вывод, что современный третий этап цифровизации обусловлен потребностью в формировании искусственного интеллекта, развивающегося на основе больших данных (Big Data) посредством deep learning в правотворческой, правореализационной и правоприменительной сферах.
Цифровизация правового регулирования, цифровые субъективные права, утилитарные цифровые права, самообучающееся автоматизированное правоприменение
Короткий адрес: https://sciup.org/170197286
IDR: 170197286 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-1-178-183
Текст научной статьи Этапы развития цифровизации правового регулирования в России
С точки зрения развития в правовом регулировании процесса цифровизации, можно выделить три этапа.
Первый этап - преобразование фактических данных в цифровую форму, возникновение особой формы фиксации фактических данных - цифровой информации и, что наиболее значимо - преодоление проблемы юридического значения цифровых данных (которая в доказательственном праве проявила себя как проблема их допустимости). На этом этапе появляются первые положения, правила, регулирующие восприятие человеком (субъектом права) фактических данных в цифровой форме. В частности, в России к элементам этого этапа относится появление сначала Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» [1], который с совершенствованием технологий был заменен ныне действующим Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. В 2010 г. в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ появляется пункт «11.1)» [3], содержащий понятие электронного документа. Дальнейшее развитие этого этапа можно наблюдать на примере процессуальных кодексов, в которых появляются нормы, статьи и даже главы о порядке использования в судопроизводстве электронных документов (такова, например, Глава 56 УПК РФ), что в систематическом виде произошло в 2016 г. [4].
В это же время цифровые данные начинает массово применять в качестве доказательств и государство: в частности, особо обсуждаемым стало допущение КоАП РФ видеокамер с цифровой фиксацией фактов нарушения Правил дорожного движения. Хотя статья 2.6.1 КоАП РФ была введена в 2007 г., принципиально значимое указание о фиксации правонарушения «в автоматическом режиме» (т.е. «без какого-либо непосредственного воздействия на него человека» - абзац второй пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 №20 [5]) появилось в ней в 2011 году. Таким образом, именно 2011 год следует считать временем появления в
России соответствующего «цифрового» механизма признания цифровых данных достаточным основанием для применения административной ответственности.
Одновременно в России идет создание различных реестров с данными в электронной форме. В настоящее время насчитывается порядка двух десятков единых государственных реестров, или ЕГР (ЕГР автомобильных дорог, ЕГР прав на воздушные суда, ЕГР СРО оценщиков, ЕГР налогоплательщиков, ЕГРЮЛ и т.д.). Особо среди названных реестров следует выделить единый государственный реестр сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров [6], деятельность которого создала технические предпосылки для формирования второго этапа цифровизации правового регулирования - появления цифровых прав.
С 2013 года действует Федеральная целевая программа (далее - ФЦП), которая была направлена на цифровизацию судопроизводства. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2351 (содержащем последнюю из редакций данной ФЦП) было выделено три основных области юридической деятельности, в которые государство планирует вводить информационно-коммуникационные технологии:
-
- судопроизводство, в том числе правосудие во всех судах судебной системы РФ. В частности, среди мероприятий Программы (начало ее реализации - 2013 год) - «создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид», а также «создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела»;
-
- принудительное исполнение судебных актов. В частности, было предписано внедрение современных технологий в систему исполнения юрисдикционных актов, включая создание единой ЕАИС ФССП и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на
принудительное исполнение в электронном виде;
-
- судебная экспертиза, т.е. экспертная деятельность, осуществляемая во всех видах судопроизводства.
В отличие от первого, второй этап характеризуется допущением в правовой системе России не просто фактических данных, признаваемых правосудием в цифровой форме, а субъективных прав, также выраженных исключительно в цифровой форме.
В частности, в 2019 г. [7] в Гражданском кодексе РФ (ст. 141.1) появляется понятие цифровых прав и определяются общие условия их приобретения, реализации и прекращения.
Наряду с общей статьей ГК РФ, в российском законодательстве появляется в этом же году Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8], основная идея которого состояла в том, чтобы легализовать и тем самым урегулировать рынки, действующие на основе технологии блокчейн. Согласно статье 1 данного ФЗ, этот закон урегулировал инвестиционные отношения с использованием «инвестиционных платформ», в том числе установил статус «оператора инвестиционных платформ» и порядок возникновения и оборота так называемых «утилитарных цифровых прав». Как видно, данный ФЗ также направлен на цифровизацию (цифровую фиксацию) материальных (гражданских) прав, в том числе - на регулирование «платформ», т.е. на создание правового режима их обращения в технологически новых цифровых средах с усложненным составом.
Спустя год был принят еще один закон - о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Если в первом случае речь шла о цифровых правах, то во втором - о двух их разновидностях, связанных с денежными требованиями и с корпоративными требованиями. Так, из определения понятия цифровых финансовых активов следует, что под ним понимаются те же цифровые права, но, во-первых, включа- ющие денежные требования, во-вторых, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Очевидно, под «распределенным реестром» законодатель в пункте 2 статьи 3 ФЗ от 31.07.20202 № 259-ФЗ – и понимал технологию блок-чейна.
В следующем пункте этой же статьи дается определение цифровой валюты – как совокупности электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей. Как видно из данного определения, революционным в нем является не столько легальное признание разного рода «биткойнов» и «эфи-риумов», сколько то, что они признаются эмитированными (и даже именуются «валютой») и признаваемыми только самим сообществом держателей этих электронных данных. Иначе говоря, если с самого становления государства деньги всегда рассматривались как государственные казначейские обязательства (статья 27 и 29 ФЗ 10.07.2002 № 86-ФЗ [9]), то есть их платежеспособность и оборотоспособность гарантировались эмитировавшим их государством, то так называемая цифровая валюта имеет от всех иных валют то принципиальное отличие, что она не обеспечивается реальными материальными активами ни одного государства, не гарантируется даже авторитетом какого-либо государства и вообще авторитетом какого-либо эмитента (на данное положение не влияет то, что некоторые государства объявили, например, биткойн своей национальной валютой, сделав его тем самым разновидностью публичных финансов [10], поскольку не они являются его эмитентами), а основана лишь на молчаливом согласии держателей этих электронных данных, лиц, согласившихся принять эти электронные данные в качестве средства платежа и обязательствах организатора электронной платформы, в рамках которой находятся эти электронные данные.
Нельзя не отметить, что этот этап еще не в полной мере завершен: до сих пор не введен, например, институт цифрового рубля, который был заявлен Концепцией ЦБ РФ в 2021 году [11]. Отличие безналичного рубля от цифрового наилучшим образом выражена в суждении В. Кошкина: «есть российский рубль наличный – в монетах и банкнотах, есть безналичный – записи в электронных финансовых системах, а появится цифровой – код, хранящийся в специальном электронном кошельке» [12]. Интересно, что в рамках этой Концепции существует и так называемая «модель Е», из которой следует возможность «токенизации» безналичного рубля на уровне коммерческих банков Российской Федерации, который (по аналогии с биткойном) не будет признаваться обязательством ЦБ РФ, но который будет допущен им к обороту. Спустя год (с 15 мая 2022 года) было запущено тестирование цифрового рубля [13], при этом основными направлениями проверки должны стать его возможности при расчетах в маркетплейсах и агрегаторах, а основными направлениями защиты – конфиденциальность и возможности налогового администрирования. При этом его скорейшее введение обусловлено его преимуществами: «по мнению руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, это «панацея» для бюджетного процесса, так как он обеспечит «тотальный контроль» целевого использования бюджетных средств» [14]. Действительно, уникальность цифрового кода такого рубля означает, что его движение будет несложно отследить независимо от числа его транзакций в платежной системе.
Третий этап можно определить как «автоматизированное правоприменение». Если первые два этапа представляли собой, по существу, только перевод юридической информации в электронную форму (а за- тем – в цифровой код), то особенность третьего этапа – самостоятельное принятие искусственным интеллектом правотворческих, правореализационных и, что самое сложное – правоприменительных решений.
Этот этап, как представляется, стал возможен на основе создания технологии блокчейн и электронных систем, способных к самостоятельной, на основе правил формальной логики, систематизации больших массивов фактических данных. В мире этот процесс развивается пока только в качестве рекомендательных, прогностических юридических систем, но очевидно, что направление этого развития – формирование электронного правосудия.
Следует отметить, что первые два этапа развития электронного правосудия в полной мере закрепились в отечественной правовой системе (п. 3.2.1 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 [15]).
В отличие от предшествующих двух этапов, на данном этапе предполагается использование информации, сгенерированной посредством самообучающейся программы – искусственного интеллекта. Например, для начала действия такой самообучающейся программы можно было бы передать ей некоторые функции по проверке названных выше электронных сообщений, освободив правоприменителя от таких функций, как изучение правильности определенных реквизитов искового заявления (адреса, телефона, фамилии, имени и отчества сторон и т.п.). Иначе говоря, при приеме исковых заявлений искусственный интеллект уже мог бы принять на себя проверку исполнения таких обязательных реквизитов искового заявления, которые закреплены в пунктах «1)» -«3)», «6)» части второй статьи 131 ГПК РФ.
Такого рода проверка, если бы она была встроена в функции программного обеспечения судов, значительно бы сократила время, необходимое судье для принятия решения о приеме искового заявления или об ином процессуальном решении по поступившему иску.
Однако в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2351 указано лишь на те области, в которых цифровизация будет поддерживаться государством. Между тем, объективная необходимость не только цифровизации юридической деятельности, но и введения в нее возможности основанных на объективном анализе данных юридических решений – существует не только для государственных органов. Значительный объем потребности в цифровой юриспруденции связан с поиском информации частными лицами, с ее цифровой обработкой на основании юридической логики, и если первая группа потребностей все больше удовлетворяется за счет различных «конструкторов» документов (подобных, например, Конструктору договоров в СПС «КонсультантПлюс»), консолидации сведений из публичных реестров, а также различного рода СПС (помимо «Консультант-Плюс», это «Гарант» и «Кодекс») и оптимизирующих юридическую работу программ (подобных бухгалтерским 1С, кадровым программам, BPM/ERP/ECM-комплексам и т.п.), то вторая группа потребностей – до сих пор остается полностью не реализованной.
Ни в названном Постановлении, ни в программном обеспечении, предлагаемом на уровне гражданского общества – до сих пор нет программных комплексов, направленных на самостоятельную, т.е. автоматизированную аналитику компьютерной программой собранного материала (введенных данных). Интеллектуальная обработка юридических данных по-прежнему остается для российского потребителя юридической информации недоступной, хотя на частном уровне ее продвижением занимается ряд организаций (например, TAG Consulting Russia). Таким образом, на данном третьем этапе можно выделить, сообразно предложенной выше классификации стадий правового регулирования, такие направления развития цифровизации правового регулирования, которые позволят сформировать искусственный интеллект (развивающийся на основе новых данных посредством deep learning) в правотворческой, правореализационной и правоприменительной сферах.
Показательно, что искусственный интеллект уже в полной мере применяется для инженерных изысканий, для оценки финансовых рисков и построении финансовых и иных бизнес-моделей, для лингвистических переводов, но до сих пор – не реализован для юридических задач. До сих наиболее подходящие по смыслу решения (а не только набор судебных актов со схожими кванторами, как это возможно ныне в СПС). В то же время, наибольший задел в данном направлении был достигнут в англо-американской юриспруденции, исследование которой необходимо выделить пор не существует программ, которые поз- специально.
воляли бы на запрос юриста выдать
Список литературы Этапы развития цифровизации правового регулирования в России
- Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ (утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/ (дата обращения: 25.10.2021).
- Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (посл. ред. от 19.12.2022 № 536-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (дата обращения: 22.12.2022).
- Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (посл. ред. от 14.07.2022 № 325-Фз) // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 14.10.2022).
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти: Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200008/ (дата обращения: 23.09.2021).
- О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/ (дата обращения: 23.09.2021).
- Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по организации ведения единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, обеспечению доступа к нему и к реестру сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц федеральных органов государственной власти, физических лиц и организаций: Приказ Минкомсвязи РФ от 23.11.2011 N 321 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 N 22857) // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125356/02cf655a1e2fd795a3bc36ed49df9 36fd1ea7d6d/ (дата обращения: 23.09.2021).
- О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/ (дата обращения: 23.09.2021).
- О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (посл. ред. от 31.07.2020 № 259-ФЗ) // СПС «Консультант-Плюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/ (дата обращения: 25.06.2022).
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.072002 № 86-ФЗ (посл. ред. от 30.12.2021 № 484-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 01.12.2022).
- Теткин М. Сальвадор докупил объявленных валютой страны биткоинов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://zen.yandex.ru/video/watch/6299ec75a32b3a29ac0f2dfb (дата обращения: 01.12.2022).
- Банк России представил Концепцию цифрового рубля: Информация Центрального Банка Российской Федерации от 08.04.2021 // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381759/ (дата обращения: 01.12.2022).
- Кошкин В. Экономист объяснил, зачем России нужен цифровой рубль // Российская газета. - 18 мая 2022. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rg.ru/2022/05/18/ekonomist-obiasnil-zachem-rossii-nuzhen-cifrovoj-mЫ.html?yschd=l53ewy9qjg886880621 (дата обращения: 01.12.2022).
- Шалимова А. ЦБ приступил к тестированию цифрового рубля. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961123&ysclid=l53a4gb0gl302386070 (дата обращения: 01.12.2022).
- Волкова Е. На ПМЮФ обсудили введение цифрового рубля // Коммерсантъ. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5445263?ysclid=l53aaw3opx693093693 (дата обращения: 01.12.2022).
- Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 (в ред. от 17.11.2021) // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209690/?ysclid=l53sadfnua688563320 (дата обращения: 25.11.2022).