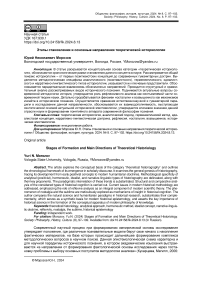Этапы становления и основные направления теоретической историологии
Автор: Морозов Ю.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается концептуальная основа категории «теоретическая историология», обозначаются хронологические рамки становления данного концепта в науке. Рассматривается общий генезис историологии - от первых позитивистских концепций до современных гуманитарных доктрин. Выделяется методологическая специфика аналитического (позитивистского), герменевтического, идеалистского и нарративно-лингвистического типов историологии, указываются их ключевые представители. Обосновывается парадигмальная взаимосвязь обозначенных направлений. Проводится структурный и сравнительный анализ рассматриваемых видов исторического познания. Поднимаются актуальные вопросы современной методологии истории, утверждается роль рефлексивного анализа как неотъемлемой части современной теории науки. Детально прорабатывается феномен ностальгии и возвышенного как механизмов инсайта в историческом познании. Осуществляется сравнение естественнонаучной и гуманитарной парадигм в исследовании данной направленности, обосновывается их взаимодополняемость, выступающая синтетической основой актуальной исторической эпистемологии, утверждается ключевое значение данной отрасли науки в формировании понятийного аппарата современной философии познания.
Теоретическая историология, аналитический подход, герменевтический метод, идеалистская концепция, нарративно-лингвистическая доктрина, рефлексия, ностальгия, возвышенное, историческая эпистемология
Короткий адрес: https://sciup.org/149146453
IDR: 149146453 | УДК: 167:930.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.13
Текст научной статьи Этапы становления и основные направления теоретической историологии
25). Данный процесс предполагает создание обобщающей концепции, содержащей в себе смысловой проект исследуемого исторического явления, дальнейшую трансформацию этой концепции в рабочую гипотезу, её экспертизу и (при позитивном итоге апробации) оформление в полноценную историческую теорию. Ввиду этого основной задачей динамичной научной дисциплины является «проверка теорий, их совершенствование и выработка новых всегда на основе фактов в самом широком понимании» (Тош, 2000: 218). Активный синтез наработанных научных теорий и методологической структуры, основанный на верифицированных эмпирических практиках, представляет собой теоретическую историю как научную дисциплину.
Целью данной работы является раскрытие структуры теоретической историологии как конвергентного комплекса, состоящего из естественнонаучного (аналитического) базиса и гуманитарных доктрин, основанных на уникальных формах рефлексивных взаимодействий и интрапсихиче-ских феноменов. Указанная цель достигается посредством последовательного анализа и выявления основных эпистемологических механизмов всех этапов формирования теоретической истории.
Общие предпосылки данного научного подхода начали появляться во второй половине XIX – начале XX вв. в ходе «борьбы против позитивистского понимания единства науки» (Кукарцева, Мегилл, 2006: 31). Основные направления утилитарных, позитивистских техник в гуманитарной сфере разрабатывали О. Конт (Конт, 2016), Д.С. Милль (Милль, 2007), Г. Спенсер (Спенсер, 2015), постулируя естественнонаучную (объясняющую) методологию исследования. Альтернативная, неклассическая гуманитарная парадигма исследования была представлена в работах И.Г. Дройзена (Дройзен, 2004), В. Дильтея (Дильтей, 2004), В. Виндельбанда (Виндельбанд, 1995), в которой познавательная практика основывалась на фиксации (понимании) уникальных характеристик изучаемого предмета. Данный подход нашел отражение в трудах отечественных историков Н.И. Кареева (Кареев, 1915), А.С. Лаппо-Данилевского (Лаппо-Данилевский, 2013), Г.Г. Шпета (Шпет, 2011), где исследовательский акцент сконцентрирован на индивидуальных компонентах познавательной деятельности историка, психологическом ракурсе изучения событий прошлого, выявлении внутренней (уникальной) структуры исторического процесса.
Вместе с тем следует отметить, что именно доминирование позитивистской парадигмы санкционировало постепенную рецепцию некоторых естественнонаучных методик в историческое исследование. Результатом данного синтеза стали методологические концепции, интегрирующие в себе теорию и эмпирические наработки (в социологии данные проекты называются теориями среднего уровня), что утвердило новый раздел исторической науки, получивший название «теоретическая историология». В общем плане данная категория предполагает широкий методологический базис в рамках социально-исторической эпистемологии, сформировавшийся в основном к середине XX в. как результат научной и философской полемики о ключевых направлениях, специфике и целях исторической науки в контексте общего генезиса познавательных направлений. На текущий момент существует четыре рабочих ориентации историологии «аналитическая, герменевтическая, идеалистская и нарративно-лингвистическая» (Кукарцева, Мегилл, 2006: 31).
Начальный (первый) этап становления теоретической историологии, начинается с утверждения идеалистского подхода, первоначально представленного в работе Б. Кроче «Теория и история историографии», в которой историческое развитие рассматривается в качестве «мышления и действия». Концепция Б. Кроче, основываясь на классической теории идеализма, трактует исторический процесс как бытие духа, но последний у итальянского философа реализуется не как изолированная, надсубъектная воля, а как тотальность осознанных поступков исторических индивидов. Позиция Б. Кроче основана на положении, что ученый не восстанавливает (реконструирует) исторические события, а творчески преобразует, воссоздает, собирает факты прошлого, проникая в духовную сферу минувших явлений, которые являются объектом анализа в настоящем. Реальность исторических событий устанавливается через современные процедуры критики дошедших до нас свидетельств, где базисом познания является ментальная функция историка, его «живое, непосредственное восприятие, интуитивное схватывание» (Кроче, 1998: 25). Исследуемое историческое развитие, по мнению философа, представляет собой перманентную динамику событийной реальности (от прошлого до актуального настоящего), и любая остановка, перерыв в указанном движении преобразуют исторический генезис в неподвижность хроники, где «история жива, хроника мертва, история всегда современна, хроника уходит в прошлое» (Кроче, 1998: 13). В когнитивном аспекте подобное изложение выступает как ментальный проект первого уровня, для которого не свойственны элементы рефлексии, «всякая история превращается в хронику, если не подлежит осмыслению» (Кроче, 1998: 13). Хроника – бессодержательная, немая история, повествование с разорванной социальной коммуникацией в настоящем. Таким образом, созданная Б. Кроче доктрина предполагает исследование исторического процесса (действий ключевых акторов прошлого) только посредством рефлексии (мышления) практикующего историка, где осознание, понимание минувших событий осуществляется с учетом активных познавательных механизмов настоящего.
В дальнейшем аналогичные исторические установки нашли отражение в работе Р.Дж. Коллингвуда «Идея истории. Автобиография», в которой автор также основное внимание уделяет вопросу «мышления и действия» в изучении истории. Английский историк полагал, что ввиду недоступности реальных исторических событий, реконструкция прошлого возможна только через «историческое воображение», которое позволяет воспроизвести когнитивные процессы (мысли) исторических субъектов, «историк ищет именно эти процессы мысли, вся история – история мысли» (Коллингвуд, 1980: 204). Р. Коллингвуд ввел методологическое понятие «пере-думывание» прошлого – восстановление ментальных конструкций минувшего в собственном сознании через факты (действия), определенные на основе изучения исторических источников, то есть, по утверждению британского философа, исторические явления – рефлексивные акты, которые для историографа «объективны и могут быть познаны им только потому, что они одновременно и субъективны, то есть являются действиями его собственного сознания» (Коллингвуд, 1980: 208). Историческая концепция Р.Дж. Коллингвуда в основном аналогична взглядам на историю Б. Кроче, однако, в отличие от последнего, английский философ фиксирует онтологическую модальность истории как когнитивное явление познающего субъекта – результат рефлексии историка.
Второй этап становления теоретической истории как научной дисциплины утверждает концепцию аналитической историологии (особенностью которой является ориентация на позитивистскую доктрину познания, основанную на признании нейтральности субъекта и истинности знания, где дескрипция и объяснение выступают основой познавательных методик). Указанная концепция предполагает отождествление исторической и естественнонаучной методологий; данный подход основан на использовании гипотетико-дедуктивной техники. Ее центральная работа – статья К.Г. Гемпеля «Функция общих законов в истории», в которой он рекомендовал универсальную схему обоснования исторических фактов. «Каркас» объяснения в данной концепции состоит из дедукции экспланандума (объясняемого явления) из эксплананса (объясняющих суждений). Основными условиями выступают положения, при которых первый обязан быть логическим итогом второго, а содержание эксплананса должно быть абсолютно истинным, при этом необходимо соблюдение условий, когда он «должен содержать общие законы, которые действительно необходимы для выведения экспланандума» (Гемпель, 1998: 92). Под общими законами ученый понимал основные положения естественных наук: законы логики, математики, физики и т.п.
Позднее существенное влияние на развитие аналитической историологии оказала наррати-вистская доктрина американского философа А. Данто. Основой данного концепта выступает исторический текст как способ постижения прошлого. Методологическим базисом своего анализа ученый, как и К. Гемпель, выделяет номологическое (через закон) описание прошлого: «Сначала нужно дать истинное описание некоторого события, а уж потом объяснять его» (Данто, 2002: 32). Автор акцентирует внимание на ретроспективном изучении исторических событий в их взаимосвязи с другими хронологическими явлениями, особенно с теми, которые стали итогами первоначально исследуемых исторических фактов, предлагая аналитически свести предмет изучения к составляющим его частям, «понимание которых по отдельности призвано способствовать достижению целостного знания о нем» (Ануфриева, 2018). А. Данто раскрывает исторический нарратив как темпоральный комплекс, основанный на структурном единстве прошлого и настоящего, находящегося в интерпретационной зависимости от познавательных ориентаций автора.
Аналогичная эпистемологическая схема «действенно-исторического сознания» была разработана Х.Г. Гадамером в рамках неклассической герменевтики, методологической основой которой является реализация интерпретационных процедур через совокупный контекст всех наличных практик (прошлых, актуальных и перспективных настоящих). Созданная немецким философом доктрина выходит за рамки классической парадигмы, утверждающей исключительно историчность изучаемого документа, она дополняется вариативной историчностью рецепции самого исследователя, констатируя интеллектуальную взаимосвязь прошлого и настоящего. Использование подобного исследовательского комплекса углубляет возможности смыслового восприятия индивида, формируя структуру, в которой понимание выступает как «род действия и познает себя в качестве такового» (Гадамер, 1988: 404). Реализуемая подобным образом герменевтическая рефлексия хронологических документов определяется автором как слияние двух «жизненных горизонтов». Первый – «горизонт» реципиента, включающий профессиональные ориентиры, латентные эмоции, ожидаемые перспективы, второй – «горизонт» нарратива, основанный на смыслопорождающем (авторском) целеполагании и структурном становлении повествования. В итоге неклассическая интегративная интерпретация в герменевтическом подходе Х.Г. Гадамера, в отличие от идеалистской монорефлексивной парадигмы исторического анализа, утверждает интеррефлексивную методику исследования, где «искру смысла высекает взаимодействие двух сознаний, вовлекающих глубинные пласты аффективно-эмоциональных структур, вербальносмысловых ассоциаций» (Смирнова, 2018: 32–33).
Значительное влияние на формирование герменевтической историологии оказала французская традиция, представителем которой был П. Рикер. Его концепция основывалась на принципах феноменологии, не исключая психоанализ, структурализм и аналитические построения. Свою задачу философ видел в создании универсальной герменевтики, которая бы раскрывала все структуры, обладающие избыточными смысловыми значениями. Такими структурами, в его понимании, выступают знаки, символы и текст, в них одна семантическая схема апеллирует к другой, неявной, частично соответствующей тому, что выражает язык. Именно эти структуры связывают индивида с природным и социальным миром, а основная функция герменевтики – максимально раскрыть все проявления текстового порядка через поиск и описание прошлого, вхождение с ним в диалог: «Больше объяснять, чтобы лучше понимать» (Рикер, 1995: 9). Данная установка реализовала перспективу широкой коммуникации исторического познания с другими сферами гуманитарных наук. Основательная работа П. Рикера в изучении повествовательных компонентов (знак, символ, текст) сформировала устойчивый интерес герменевтической историологии в направлении нарративист-ских исследований. Герменевтическая историология как антипозитивистское направление включает в себя субъективное влияние на познавательную практику и ее объект, она основана на установке «отнесения к ценностям», где понимание выступает главным исследовательским методом. Учитывая релятивизм и интерпретационные качества исторического исследования, данная исто-риология все же предполагает обоснованный научный подход в изучении прошлого.
Третий этап развития теоретических исследований истории начинает складываться в 70-е гг. XX в. как логический результат реализации постструктуралистских и постмодернистских идей, представляя собой итог «лингвистического поворота», основанного на доктрине нарративного идеализма. Данное направление получило название нарративно-лингвистической историологии, основной вклад в развитие которой внесли работы Х. Уайта и Ф.Р. Анкерсмита. В работе «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» Х. Уайт рассматривает историческое описание через ракурс четырех ключевых тропов поэтико-лингвистического языка: иронии, синекдохи, метафоры и метонимии. Данные тропы являются основой сформированного им термина «историческая тропология» как рефлексивной схемы проецируемого историком дискурса. По мнению Х. Уайта, изучение любого исторического процесса не предполагает однозначной рефлексии без использования тропологических образных элементов, которые задают смысловую основу данного явления «вопреки фактическим неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослаблять его доказательства» (Уайт, 2002: 10).
Ф.Р. Анкерсмит также полагал, что только тропология дает историку надежную методологию, через которую осуществляется реконструкция недоступного (утраченного) прошлого в очевидное. В поздних исследованиях он отходит от нарративной (постструктуралистской) концепции истории, абсолютизируя категорию «исторического опыта», представляя его как экзистенциальное переживание («стон истории»), через которое возможно проникновение в прошлое. В своем главном труде «Возвышенный исторический опыт» нидерландский философ формирует оригинальную концепцию «интеллектуального эмпиризма», включающую в себя три вида исторического опыта – «субъективный», «объективный» и «возвышенный». Согласно данной теории, первый из них представляет собой индивидуальную практику действующего историка и отражает наработанную им фактологию как совокупный (сознательный и подсознательный) ментальный базис. Объективный исторический опыт в свою очередь выражает собой социальное явление, реализующее экспликацию прошлого обществом как собственного минувшего бытия. Основу этого вида опыта составляют археологические находки, хронологические свидетельства, периодическая пресса, документы и другие исторические памятники, созданные непосредственными (прямыми) участниками и очевидцами исторических событий. Выделяя специфику субъективного вида опыта, Ф.Р. Анкерсмит проводит прямую аналогию между ним и описанным Й. Хёйзингой феноменом «экстасиса», который выражает индивидуальное, неосознанное ностальгическое чувство, образующееся в ходе взаимодействия с предметами истории (картинами, рукописями, мемуарами и т.п.), редуцируемое к «мгновениям особой духовной ясности, к внезапным духовным прорывам» (Хёйзинга, 1997: 249). Ностальгия в указанном аспекте представляет собой аффективный, ментально целостный, взаимосвязанный психический механизм диалектического характера, состоящий из позитивной компоненты (сентиментальная восторженность прошлым, эстетическое удовлетворение от положительных воспоминаний) и негативной части (чувство тоски, утраты, сожаления о прошлом). Ввиду этого субъективный опыт историка утверждается Ф.Р. Анкерсмитом как ностальгический опыт разности, которая «требует присутствия одновременно и настоящего, и прошлого, она позволяет субъекту и объекту сосуществовать вместе» (Анкерсмит, 2003: 113). Синхронная активация в сознании субъекта двух ментальных, рефлексивно динамичных конструктов (настоящего и прошлого) ведет к расщеплению сознания (внутреннему расщеплению Я) историка в пределах ностальгического контекста, где психический феномен ностальгии запускает (диалектическими компонентами) расширенную, моментальную, бинарную экспликацию глубинных – латентных когнитивных процессов – инсайт, затем (фактически сразу) имманентное единство диалектических составляющих ностальгии обрывает действие диссоциации, приводя в норму целостность сознания (прерывая шизофренические девиации историка). Схема ностальгического опыта, по утверждению нидерландского ученого, носит универсальный характер в исследовании истории и определяется им «в качестве матрицы для приемлемого анализа исторического опыта вообще» (Анкерсмит, 2003: 113). Основное внимание в своей работе Ф.Р. Ан-керсмит сосредотачивает на описании возвышенного исторического опыта, который он трактует как синтетический продукт индивидуального и объективного исторических опытов в контексте категории возвышенного, где чувство последнего, по Ф.Р. Анкерсмиту, конституируется одновременно эмоцией ужасного и привлекательного (также диалектический двухкомпонентный психический феномен) как осознание «негативного удовольствия». Если ностальгический опыт – это реализация различия, то возвышенный исторический опыт воплощает собой окончательную обособленность (посредством травмы, надлома) между прошлым и настоящим, «прошлое рождается из травматического опыта историка, вступающего в новый мир и осознающего бесповоротную утрату прежнего мира» (Анкерсмит, 2007: 368). Нидерландский историк постулирует возвышенный опыт как интенсивную производную от субъективного исторического опыта, где «ностальгическое» (бинарное) расщепление сознания дополняется «возвышенным», расширяя пределы когнитивной диссоциации, что ведет к соприкосновению «не только с прошлым в его квазиноуменальном виде, но еще и с аурой утраченного нами мира» (Анкерсмит, 2007: 368). Концепция интеллектуального эмпиризма Ф.Р. Анкерсмита трансформирует историческое исследование из области межрефлексивных отношений в масштабную сферу инсайтов – продуктов диссоциации ментальной основы ученого, где главными эпистемологическими инструментами являются интрапсихические – диалектические феномены ностальгии, травмы, возвышенного. Разработанный Ф.Р. Анкерсмитом концепт «возвышенный исторический опыт» заявляет переход к «зоне абсолютно нового и небывалого опыта сознания», к области его «первоначальных самоданностей» (Свасьян, 2010: 121). Несмотря на это, концепцию исторического опыта Ф.Р. Анкерсмит утверждает не как альтернативу нарративно-лингвистическому (тропологическому) подходу в истории, а как дополнение его значимой философской теорией для создания новых эпистемологических течений и доктрин.
Таким образом, необходимо отметить методологическую взаимосвязь и парадигмальную преемственность перечисленных этапов становления теоретической историологии, составляющие компоненты которой имеют востребованный прикладной характер в настоящее время. В эмпирическом отношении историология неотделима и взаимосвязана с профессиональным функционированием историка (в отличие от философии истории). В прикладной науке предметом изучения является исторический факт, отраженный в источнике, в то время как историологическое исследование ориентировано на поиск категориальных теоретических принципов в хронологическом генезисе общества, установление «“жизненной полноты” – системы центральных вопросов рефлексии истории, образующих нерв того движения мысли, которое можно назвать теоретической историей» (Кукарцева, Мегилл, 2006: 26–27).
На современном этапе развития научного знания исследовательская парадигма теоретической историологии наиболее актуальна для академического тезауруса философии познания, так как, по мнению В.Н. Поруса, «историческая эпистемология, в которой принцип историзма вступает в сложные отношения с понятийным аппаратом философии познания, может и должна стать лабораторией, предназначенной для формирования этого аппарата, конструирования новых смыслов, внедряемых в прежние терминологические оболочки» (Порус, 2021: 51).
Список литературы Этапы становления и основные направления теоретической историологии
- Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. 609 с.
- Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлёт и падение метафоры. М., 2003. 489 с.
- Ануфриева К.В. А. Данто: наррация и исторические миры // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2018. № 2. С. 144–156.
- Виндельбанд В. Дух и история. Избранное. М., 1995. 687 с.
- Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философии герменевтики. М., 1988. 699 с.
- Гемпель К.Г. Логика объяснения. М., 1998. 237 с.
- Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. 289 с.
- Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. М., 2004. Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе. 419 с.
- Дройзен И.Г. Историка. СПб., 2004. 582 с.
- Кареев Н.И. Историология. Петроград, 1915. 320 с.
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. 486 с.
- Конт О. Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении. М., 2016. 76 с.
- Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. 192 с.
- Кукарцева М.А., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // История и современность. 2006. № 2. С. 24–47.
- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2013. 602 с.
- Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм. М., 2007. 170 с.
- Порус В.Н. Историческая эпистемология – триггер реформы философии познания // Вопросы философии. 2021. № 5. С. 47–57. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-5-47-57.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. 159 с.
- Свасьян К.А. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика. М., 2010. 206 с.
- Смирнова Н.М. Понятие смысла в зеркале герменевтических практик // Вопросы социальной теории. 2018. Т. 10. С. 25–37. https://doi.org/10.30936/2227-7951-2018-10-25-37.
- Спенсер Г. Политические сочинения: в 5 т. М., 2015. Т. 5: Этика общественной жизни. 471 с.
- Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 296 с.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. 528 с.
- Хёйзинга Й. Homo Ludens: статьи по истории культуры. М., 1997. 416 с.
- Шпет Г.Г. История как проблема логики: критические и методологические исследования. М., 2011. 475 с.