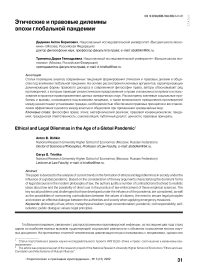Этические и правовые дилеммы эпохи глобальной пандемии
Автор: Дидикин А. Б., Тринитка Д. Г.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (13), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современных тенденций формирования этических и правовых дилемм в обществе под влиянием глобальной пандемии. На основе рассмотрения ключевых аргументов, характеризующих доминирующие формы правового дискурса в современной философии права, авторы обосновывают ряд противоречий, к которым приводят реалистические представления о праве и возможности прямого использования в практике правоприменения данных эмпирических наук. Рассмотрены ключевые социальные проблемы и вызовы, сложившиеся под влиянием пандемии, а также возможности преодоления противоречий между ценностными установками граждан, необходимостью обеспечения правовых принципов и восстановления эффективного диалога между властью и обществом при применении чрезвычайных мер.
Философия права, этика, метафизический реализм, правовой конвенционализм, пандемия, гражданская ответственность, самоизоляция, публичный диалог, ценности, правовые принципы
Короткий адрес: https://sciup.org/14125363
IDR: 14125363 | DOI: 10.22394/2686-7834-2022-3-31-37
Текст научной статьи Этические и правовые дилеммы эпохи глобальной пандемии
Глобальная пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, за последние два года стала одним из наиболее важных вызовов существующей социальной реальности и объектом осмысления многих научных дисциплин. На протяжении столетий человеческая цивилизация не раз сталкивалась с эпидемиями, однако они
СТАТ Ь И
не имели таких масштабных последствий с точки зрения влияния на социальную среду и в значительной степени носили временный характер, а впоследствии создавали у общества возможность противодействия новым эпидемиям. Сложность философского осмысления пандемии в наши дни состоит в том, что она превращается в элемент повседневной жизни каждого человека. Ограничения массовых мероприятий, режим самоизоляции и карантина, удаленная работа — эти понятия прочно вошли в бытовую жизнь граждан. Наряду с этим вокруг глобальной пандемии формируется обширное информационное пространство, создающее разные источники получения данных у людей относительно характера и диагностики заболевания коронавирусной инфекцией, не всегда содержащие достоверную и проверяемую информацию. Такое положение дел способствует формированию атмосферы недоверия к реализуемым мерам противодействия пандемии, сомнений в эффективности уже принятых решений. Органы публичной власти реагируют на пандемию ситуативно и хаотично, отказываясь от публичного диалога с обществом в выработке совместных усилий по борьбе с инфекцией (отдельные страны, наподобие Австралии, прибегали к длительному режиму локдауна, существенно ограничивающему права граждан без достаточных на то оснований)3. Нельзя не отметить и стремительное развитие цифровых технологий в условиях глобальной пандемии, поскольку и торговля, и трудовая деятельность, и культурная жизнь переместились в виртуальную форму, создавая причудливые сочетания гибридного типа (офлайн и онлайн одновременно). Это неизбежно формирует новый уровень цифровой грамотности у граждан, не имеющих возможности другими способами поддерживать социальные связи и коммуникации, и одновременно с этим социальные проблемы и технологические вызовы для разных социальных групп и сообществ.
Отмеченные тенденции подтверждают актуальность концептуального осмысления происходящих событий с точки зрения философско-правового дискурса. Очевидно, что сложившиеся подходы к пониманию природы права и правовых институтов, гармонизации правовых и моральных предписаний с целью рационального воздействия на поведение людей, не соответствуют уровню возникающих социальных проблем и требуют переосмысления в новых условиях. В статье предпринимается попытка рассмотреть современный философско-правовой дискурс с позиции возможного применения в нем экспертных оценок, результатов общественных дискуссий, форм выражения публичного мнения заинтересованными участниками.
Метафизический реализм и конвенционализмв философско-правовом дискурсе
Что представляет собой современная философия права? Это, прежде всего, сочетание двух взаимосвязанных, но в то же время идейно различающихся традиций философских рассуждений о праве — аналитической и континентальной. Континентальная традиция содержательно является антисциентистской , направленной на философское осмысление правовых явлений в контексте ценностей, метафизических сущностей, тесной связи права с этическими постулатами, культурой и социальной средой. Несмотря на широкий подход к осмыслению природы права, в континентальной традиции сложилось устойчивое недоверие к строгим логически обоснованным конструкциям, попыткам применения методов точных наук к области правового регулирования. Само юридически значимое поведение субъектов рассматривается в континентальной традиции как ситуативное, иногда иррациональное, а потому требующее юридической оценки с позиции действующих правовых норм. Отсюда многообразие философско-правовых концепций, сложившихся в недрах континентальной традиции, и их тесная связь с правовыми институтами романо-германской правовой семьи (в частности, феноменология права, правовая герменевтика, теологические концепции естественного права и др.). Аналитическая традиция, напротив, основывается на философских рассуждениях о праве в духе сциентизма , изучения грамматики юридического языка, логики юридической аргументации и в целом активного обоснования нормативного подхода к праву, поскольку выход за рамки нормативной природы права вызывает у аналитических философов права определенное недоверие и скептицизм4. Для отечественной традиции философии права характерно внимание к социальной природе правовых институтов (под влиянием марксизма), попытки сформулировать концепции интегративной юриспруденции с целью гармонизации существующих подходов к пониманию сущности права5.
Вплоть до 70-х гг. XX в. в философии права наблюдалось устойчивое разделение аналитической и континентальной традиций. Однако фундаментальный характер вопросов о природе правовой реальности, эпистемологических средствах познания правовых явлений, взаимосвязи этических и правовых предписаний в механизме регулирования поведения граждан способствовал сближению теоретических подходов. Так, например, методологическую основу аналитической философии права изначально составляли базовые установки и аргументы правового позитивизма, предполагающие жесткое разделение права и морали (в интерпретации Дж. Остина и отчасти И. Бентама), нормативного и фактического в праве, а также обоснование различия между источниками появления правовых и моральных обязательств, но позднее позитивистская аргументация становится более гибкой и изменчивой. Ключевой аргумент философско-правовой концепции Г. Харта о том, что среди субъективных прав, конституируемых правилом признания (чаще всего нормами конституции), можно обнаружить и моральные права, имеющие естественноправовую природу (как, например, право на свободу), вызвал теоретические разногласия и стал по существу уступкой в пользу признания минимального морального содержания в праве. Примером дебатов по данному вопросу стала дискуссия Г. Харта с П. Девлином о пределах государственного принуждения с помощью уголовно-правовых мер и вмешательства в частную жизнь граждан, не завершенная до настоящего времени6.
СТАТ Ь И
В 70-е гг. XX в. разграничение аргументов эксклюзивного и инклюзивного правового позитивизма с точки зрения воздействия моральной аргументации на принятие правовых решений станет поводом к сближению различных теоретических позиций. Сторонники эксклюзивного правового позитивизма (Дж. Раз, А. Мармор и С. Шапиро) полагали, что право не может включать в себя принципы помимо правовых норм, а если закон вдруг отсылает к принципам, то судья фактически выступает в роли законодателя, который должен с помощью толкования данных принципов урегулировать возникший правовой спор7. В эксклюзивном правовом позитивизме не остается места для превращения моральных принципов в правовые, поскольку природа права проистекает из социальных фактов и особых видов источников права. Право и мораль являются разными регуляторами поведения людей, а потому исключена возможность даже частичного совпадения их границ. Инклюзивный правовой позитивизм (М. Крамер, Дж. Коулман, У. Валучов и К. Химма) возникает как теоретическая позиция, допускающая концептуальную возможность использования моральных критериев для определения действия и содержания права8. Такая возможность вполне реализуема на практике, если судьи или органы публичной власти прибегают к моральной аргументации при принятии правовых решений.
Однако в этот же период появляются попытки обоснования идей метафизического реализма с целью совершенствования доминирующего в западной юриспруденции философско-правового дискурса. Такая реалистическая позиция направлена на сближение аргументации аналитической и континентальной традиций в философии права и допускает заимствование аргументов из области естественных наук (и медицины в том числе) в сфере права. Ключевые положения метафизического реализма, несмотря на их теоретическую незавершенность, можно свести к следующим положениям:
-
- признание объективного характера исследуемых сущностей, существование которых не зависит от индивидуального восприятия этих сущностей (тезис, близкий позиции научного реализма в эпистемологии);
-
- признание корреспондентной теории истины как соответствия научных суждений объективной реальности;
-
- логическая корректность научных суждений, в том числе признание условно-правдоподобной семантики значений предложений и причинно-следственных связей для терминов естественных видов9.
Такие эпистемологические аргументы относительно природы правовой реальности наиболее глубоко в философии права разработал М. Мур, полагавший, что понимание юридических терминов в контексте метафизического реализма дает множество преимуществ, в частности возможность использовать в нормативных документах и при принятии правовых решений «общепринятые термины о значении слов»10. Если в аналитической философии права лингвоцентризм выступает основным принципом познания правовых явлений, то в концепции М. Мура язык рассматривается лишь как несовершенный инструмент для описания реальности. В социальных науках ученый должен заботиться о раскрытии истинной природы и сущности таких понятий, как «добродетель», «равенство», «жизнь» и «смерть», а не изучать вечно изменяющиеся и неопределенные лингвистические характеристики употребления слов «добродетель», «равенство» или «смерть». В метафизическом реализме М. Мура сам термин относится к естественному виду событий и фактов, происходящих в мире, что позволяет находить нужные символические языковые конструкции, чтобы именовать конкретные вещи и находить соответствие суждений внешнему миру11. В таком случае использование терминов и их определений не всегда будет статичным, так как обстоятельства их применения могут изменяться.
Аргументы М. Мура направлены и против конвенционального понимания значений правовых понятий в аналитической философии права: если отношения между символами и вещами носят случайный характер, истина как соответствие реальности недостижима. Между тем даже в судебной практике существует немало случаев, когда судьи не занимаются поисками точных значений терминов, а используют определения, данные законодателем, не сталкиваясь с какой-либо неопределенностью. Юристам следует избегать создания собственных «юридических конструкций» в отношении процессов физической реальности и вместо этого ориентироваться на экспертные мнения
СТАТ Ь И
компетентных ученых. Обычное значение и использование термина, а также наши представления о мире обеспечивают лишь фон, контекст, в котором мы интерпретируем законодательные определения. Для Мура законодательные определения, как и общепринятые определения, являются всего лишь «общепринятыми терминами реального или реалистического значения слов»12, а судьям иногда может быть необходимо игнорировать законодательное определение, когда оно выполняется вопреки истинной природе того, что в определении выделено.
Одним из главных преимуществ метафизического реализма перед аналитическим конвенционализмом в правовом контексте является неподвижность и негибкость конвенционализма в историческом развитии последнего перед лицом исторического развития. Мур утверждал, что поскольку наше понимание объектов и процессов в мире меняется и улучшается со временем, конвенционализм не предлагает ни условий, ни механизмов для изменения наших определений терминов, чтобы успевать вслед за объективными изменениями языка и восприятия значений терминов людьми13. В рамках конвенционализма любая попытка применить старый термин к новым обстоятельствам должна быть охарактеризована как изменение значения этого термина.
В качестве примера, активно используемого в судебной практике, Мур приводит использование понятия «смерть». Когда-то люди приравнивали смерть к прекращению работы сердца и легких. Такие определения иногда включались в законодательные акты (например, определяя, когда органы человека могут быть извлечены для использования в трансплантационной хирургии). В последнее же время врачи получили возможность вернуть к жизни некоторых людей, у которых произошла остановка сердца и прекратился дыхательный процесс (в течение короткого промежутка времени). Тем самым врачи и законодатель вслед за ними в настоящее время склонны отождествлять смерть с прекращением работы мозга или с невосстановимостью его работы14.
В данной ситуации конвенционалисты не стали бы изменять значение слова «смерть». Если бы в законе, разрешающем трансплантацию, явно использовалось старое определение «смерти», мы все равно считали бы катастрофической ситуацию, при которой судья, полагаясь на старое определение смерти, разрешил бы удаление органа у человека, которого можно было бы вернуть к жизни15. Реалист же не ограничивает себя числом имеющихся значений слова «смерть». Нормативные определения являются не столько оговорками, сколько первоначальными оценками, подлежащими изменению под влиянием научно-технического прогресса. Поэтому законодательный орган должен иметь такие же реалистические намерения, как и другие субъекты коммуникации.
Однако в таких рассуждениях М. Мура возникают и существенные противоречия. Очевидно, что по мере появления новых научных достижений возможности трансплантации отдельных органов человека вплоть до их переноса в другое тело или клонирования функций человеческого организма неизбежно сталкиваются с этическими ограничениями хирургического вмешательства в человеческий организм или же нарушают сложившиеся представления о личности человека как сочетании социального, духовного и биологического в нем. Быть реалистом по отношению к таким открытиям не означает исключение конвенционализма по поводу принятия этических ценностей и руководства ими (в том числе ценностей жизни и здоровья как установок к поведению во взаимоотношениях с другими людьми).
Например, Мур задает в своих рассуждениях вопрос, как описать тех людей, чье сердце остановилось, но их еще можно реанимировать? Если методы реанимации не будут применены быстро, человек фактически умрет. Считается ли такой человек живым в этот «переходный период», даже если отсутствуют нормальные признаки жизни (например, дыхание и пульс)? Можно утверждать, что человек все еще жив (или по крайней мере «не умер»), потому что реанимация все еще возможна (смерть как событие происходит в тот момент, когда реанимация уже невозможна). Само по себе развитие медицины не будет менять представления и у конвенционалистов по поводу наступления смерти у человека, будут уточняться лишь детали поведения врачей и фиксации их усилий по спасению жизни пациентов16.
Однако нельзя не заметить, что во время заседаний комитетов врачей, констатирующих состояние пациентов, могут использоваться условные суждения, в частности вопрос «действительно ли этот пациент еще жив?» или же термины «жив», «действительно жив», «клиническая смерть», «неопределенность», «между жизнью и смертью» и др. Несмотря на реалистический характер таких суждений, они имеют и этическую нагрузку наряду с решением юридических вопросов17. Например, по вопросу «должна ли пациентка продолжать получать определенные формы лечения, несмотря на то, что она находится в постоянном вегетативном состоянии?» обсуждение будет вестись не с точки зрения различия позиций реализма и конвенционализма, а на основе доступной информации и проверки ее достоверности, поэтому ответы могут быть различными. Однако Мур убежден, что «метафизическая дискуссия по поводу реализма имеет практический смысл и имеет отношение к практическим проблемам, как в законодатель- стве, так и в других местах»18, поскольку мнения судей, законодателя и госслужащих будут основываться на научных и проверенных данных, а вовсе не на конвенционализме.
СТАТ Ь И
Метафизический реализм для философии права выступает символом неуверенности в возможности установления точного значения правовых понятий. Ведь внутри конкретной теории невозможно отличить изменения в отношении к предмету от изменений в самом предмете. В этом смысле теоретические взгляды М. Мура близки семантической концепции Д. Бринка, который полагал, что семантика должна показывать и убеждать пользователей терминов в том, что смысл терминов определяется их отношением к свойствам или классу объектов, которые ими описываются19. Наши представления о конкретных объектах могут быть ошибочными, хотя убеждения со стороны властей и высказывания экспертов будут лучшим доказательством того, какова природа этих объектов. Тот факт, что разногласия будут сохраняться, означает лишь то, что судьи и законодатель иногда могут ошибаться.
Дилеммы пандемии: между реализмом и конвенционализмом
Рассмотренная выше концепция метафизического реализма в философии права является ярким примером того, как обоснованная аргументация, опирающаяся на сциентизм и поиск объективных оснований принятия социально значимых решений, может столкнуться со стремительно меняющейся социальной реальностью. Так, например, несмотря на универсальный характер понимания ценности жизни во время эпидемии и распространения коронавирусной инфекции, в публичном дискурсе обсуждение диагностики и определения симптомов инфекции сначала сводилось к абстрактным характеристикам заболевания коронавирусом и методическим советам санитарных врачей по дезинфекции помещений, соблюдению масочного режима и социальной дистанции, а после сменилось активным продвижением модели принудительной вакцинации во многих странах мира20. Несмотря на запросы общественности на предоставление научно проверенной информации о результатах экспериментального тестирования различных видов вакцин против коронавируса, основным источником получения информации для граждан становились средства массовой информации или телевидение, нередко спекулирующие незнанием и непониманием людьми характера заболеваний21. Короткий перечень противопоказаний к вакцинации, предложенный в большинстве стран мира, свидетельствовал о намерении без какого-либо публичного диалога достичь показателей «коллективного иммунитета» принудительными средствами. В этом смысле рекомендации экспертов в духе метафизического реализма и отсутствие каких-либо конвенций по поводу происходящих событий вокруг пандемии очень быстро привели к утрате доверия к властным институтам и мерам противодействия пандемии в целом22.
Каким мог бы быть ответ с позиции конвенционализма? В данном случае это дискуссия о соотношении индивидуальных ценностей и общего блага, когда действия конкретного человека по защите своего здоровья одновременно выступают этическим поступком в форме заботы по отношению к здоровью других людей. Когда соблюдение масочного режима должно рассматриваться не в качестве административной обязанности (несоблюдение которой карается штрафами, собираемыми избирательно и в произвольном порядке) или навязывания специальных цифровых средств контроля за поведением (проект «Социальный мониторинг» самоизоляции), а в контексте моральной обязанности заботы о близких и старшем поколении, осознании последствий неразумного игнорирования такой меры.
Отсутствие общественных дискуссий по поводу эффективности режимов локдауна, самоизоляции, неизбежного роста расходов на содержание работников в периоды «нерабочих дней» из-за доминирования реалистического дискурса о том, что именно санитарные врачи с учетом цифр статистики, количества мест в медицинских учреждениях определяют характер налагаемых ограничений уже привело к возникновению социальных и правовых проблем глобального масштаба23. Среди них нарушение принципа равенства граждан при получении плановой медицинской помощи и социальных услуг, когда в силу отсутствия достоверной информации о болезни у конкретного лица и отсутствия у него цифрового QR-кода права граждан ограничены как территориально (свобода перемещения), так и содержательно (невозможность получения необходимых услуг от государства, в частности от судов). Необходимость использования результатов ПЦР-тестирования, преимущественно на платной основе, нарушает конституционные гарантии прав граждан, а также ставит одни социальные группы в уязвленное положение, нежели другие. Несмотря на то, что все граждане одинаково платят установленные налоги и отчисления в бюджет, вне зависимости от наличия или отсутствия результата ПЦР или QR-кода, права у отдельных граждан ограничены на безальтернативной
СТАТ Ь И
основе. При этом правовые процедуры обжалования незаконно взимаемых штрафов или технических сбоев цифровых платформ в значительной степени остаются неработающими из-за действующих карантинных ограничений.
Противоречивая информация из средств массовой информации о характере и тенденциях глобальной пандемии уже привела к трансформации рынка труда, разрушению сложившихся способов социальной коммуникации и сохранения социальных связей24. Удаленный характер трудовой деятельности, с одной стороны, может стимулировать творческую активность человека вместе с сохранением его здоровья, но с другой — при общей неэффективности карантинных ограничений приводит к росту расходов работодателей на поддержание рабочих мест в безопасном состоянии (с использованием антисептических средств, масок, но при недопущении на рабочие места работников отдельных профессий), искажению системы образования (при массовом дистанционном обучении и невозможности вакцинации несовершеннолетних, попадающих в группу риска по заражению инфекцией). Хаотичный и ситуативный способ введения ограничений, по уже имеющимся экспертным оценкам, не только не остановил пандемию, но еще больше спровоцировал ее негативные последствия для целого поколения людей.
Пандемия символически очертила этические и правовые дилеммы между стихийным пониманием неограниченной свободы и необходимостью ее ограничения в разумных пределах в целях обеспечения общего блага; между поиском адекватных виртуальных способов осуществления деловой активности (интернет-торговля, доставка продуктов первой необходимости и лекарств) и финансовым мошенничеством (с кражей персональных данных и финансовых средств); между формальным равенством по закону и отсутствием надлежащей реакции на нарушения со стороны отдельных групп граждан. Эти дилеммы — яркий пример замены научно обоснованного употребления понятий и терминов, описывающих проблему, обыденным бытовым словоупотреблением, фиксирующим общественное мнение.
Результаты социологических исследований, как отмечает И. Н. Тартаковская, убедительно подчеркивают сочетание двух противоречивых тенденций в восприятии людьми мер, предпринимаемых для противодействия коронавирусной инфекции: «Участники исследования видят свой долг в том, чтобы надевать маски, избегать общественных мест и соблюдать правила ВОЗ (на которые они часто ссылаются)… С другой стороны, конкретные меры, которые принимаются органами власти, вызывают недоверие и (привычное) чувство протеста, каждый придумывает свои правила и их обоснования, но в них не уверен»25. Такая реакция становится понятной, когда ценностные установки граждан, схожие с моделью гражданской ответственности, и нежелание причинять вред другому не сочетаются с фактическим массовым нарушением карантинных ограничений и отсутствием эффективных мер воздействия на нарушителей. Изменение общественного мнения было бы возможным, если бы пандемия не привела к ограничению действия базовых правовых принципов, имеющих в своей основе морально-этическое содержание. Это, прежде всего, принцип верховенства права , который по своему смысловому наполнению предполагает наличие действующих правовых процедур защиты нарушенных прав (а не только обеспечение формальной законности при принятии решений). Появление специфического правового режима самоизоляции наряду с ростом заболеваемости при многообразии симптомов коронавирусной инфекции наглядно продемонстрировало гражданам, что обеспечение здоровья является не только их личным делом, но и заботой об общественном благе, но между тем не способствовало упрощению бюрократических процедур получения медицинских услуг и документации. Кроме того, важным в условиях пандемии становится соблюдение принципа правовой определенности , то есть базового требования к ясному и точному воспроизведению правовых предписаний в нормативных документах и решениях органов публичной власти. Тем не менее на практике заметным стало постоянное изменение правил, связанных с карантинными ограничениями, регулярный пересмотр решений по отношению к вопросам вакцинации населения. Ключевое значение выполняет и принцип социальной справедливости , который не может исчерпываться только формальным сохранением уровня заработной платы для работников, переведенных на самоизоляцию и удаленный режим работы. Данные социологических опросов фиксируют тревожные ожидания людей по поводу перспектив сохранения рабочих мест, уровня жизни, социального и медицинского обслуживания.
Указанные тенденции подчеркивают значимость нахождения в обществе социального консенсуса, компромисса по поводу базовых социальных ценностей, когда в случае гармонизации личных и общественных интересов достижим не только показатель «коллективного иммунитета», но и преодоление противоречий между этическими императивами и социальными потребностями.
Список литературы Этические и правовые дилеммы эпохи глобальной пандемии
- Бикс Б. Концептуальные вопросы и юриспруденция // Труды Института государства и права РАН, 2020. Т. 15. № 5. С. 52-73.
- Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году: монография / В. К. Левашов [и др.]; отв. ред. В. К. Левашов, Г. В. Осипов, С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2021.
- Ромашов Р. А. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права: историко-методологический анализ // Правоведение, 2013. № 3 (308). С. 105-120.
- ТартаковскаяИ. Н. Доверие перед лицом пандемии: в поисках точки опоры // Социологический журнал, 2021. Т. 27. № 2. С. 68-89.
- Тростина М. А., ШишкановаК. Н. Народные рассказы о COVID-19 как феномен современного городского фольклора // Уральский исторический вестник, 2021. № 2 (71). С. 177-185.
- Харт Г. Л. А. Существуют ли естественные права // Харт Г. Л. А. Философия и язык права. М., Канон+, 2017. С. 116-134.
- Argote P., Barham E., Daly S., Gerez J., Marshall J., Pocasangre O. Messages that Increase COVID-19 Vaccine Willingness: Evidence from Online Experiments in Six Latin American Countries (June 28, 2021). URL: https://ssrn. com/abstract=3812023 (дата обращения: 01.02.2022).
- BixB. Law, Language, and Legal Determinacy. Clarendon Press, Oxford, 1993.
- Daly T. Securing Democracy: Australia's Pandemic Response in Global Context. Melbourne School of Government: Governing During Crises Policy Brief Series. No. 1 (June 3, 2020). URL: https://ssrn.com/abstract=3775908 (дата обращения: 02.02.2022).
- Himma K. E. Positivism and Interpreting Legal Content: Does Law Call for a Moral Semantics? Ratio Juris. 2009. Vol. 22. No. 1. P. 24-43.
- MarmorA. Exclusive Legal Positivism. Positive Law and Objective Values. New York, 2001. P. 49-70.
- Molly S., Rupali L. Building Trust in Vaccination. Vaccine Reports (2021). Johns Hopkins University. URL: https:// coronavirus.jhu.edu/vaccines/report/building-trust-in-vaccination (дата обращения: 03.02.2022).
- Moore M. S. A Natural Law Theory of Interpretation. Southern California Law Review, 1985. No. 58. P. 277-398.
- Moore M. S. The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse? Stanford Law Review, 1989. Vol. 41. No. 4. P. 871-957.