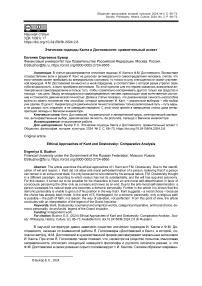Этические подходы Канта и Достоевского: сравнительный аспект
Автор: Бужор Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются этические подходы И. Канта и Ф.М. Достоевского. Вследствие отождествления воли и разума И. Кант не допускал антиморального самоопределения человека, считая, что если человек может пребывать во внеморальном состоянии, то только в силу отягощенности своей чувственной природой. Ф.М. Достоевский же мыслил в иной парадигме, в соответствии с которой разум утратил свою субстанциальность, а воля приобрела автономию. По этой причине для его героев оказалось возможным антиморальное самоопределение в пользу того, чтобы сознательно воспринимать другого только как средство и никогда - как цель. Ввиду антиморального самоопределения человек превосходит свое естественное состояние и становится демонической личностью. Далее в статье показано, что демоническая личность неспособна выйти из своего положения тем способом, который предлагает И. Кант, - моральным выбором - ибо выбор уже сделан. В духе С. Кьеркегора для демонической личности возможен только религиозный путь - путь веры, а не разума; путь спасения, а не совершенствования. С этой точки зрения в завершении статьи дана интерпретация легенды о Великом инквизиторе.
Кант, достоевский, ноуменальный и эмпирический миры, категорический императив, антинравственный выбор, демоническая личность, легенда о великом инквизиторе
Короткий адрес: https://sciup.org/149144991
IDR: 149144991 | УДК: 1(091):17 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.8
Текст научной статьи Этические подходы Канта и Достоевского: сравнительный аспект
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
ный исследователь А.В. Скоморохов в своей работе «Проблема объяснения зла: от Канта к Достоевскому» утверждает, что Ф.М. Достоевский ведет спор с И. Кантом о смысле противоречий, окружающих проблему зла, и что Ф.М. Достоевский разделяет, но пересматривает положения кантовской теории в духе опыта своего времени. В частности, А.В. Скоморохов называет таких героев Ф.М. Достоевского, как Иван Карамазов и Великий инквизитор, «кантианцами XIX века» (Скоморохов, 2019: 126, 132). Наша работа лежит в русле этой традиции, считающей, что Ф.М. Достоевский отталкивается от философии И. Канта, и в ней мы стремимся проследить различие взглядов Ф.М. Достоевского и И. Канта относительно того, может ли мораль быть достаточным основанием для самоопределения личности.
Как известно, в основе философии И. Канта лежит представление о двух мирах - мире чувственном, или феноменальном; и мире сверхчувственном, или ноуменальном. Человек является гражданином обоих миров: с одной стороны, он представляет собой природное, чувственнодушевное существо, с другой - сверхприродное, разумно-духовное. Он разделяет свойства тех миров, которым принадлежит, а значит, является двояко определенным существом.
Таким образом, И. Кант определяет ноуменальный мир как мир добра, поскольку в рамках его системы только такое определение носит безусловный характер. Содержательная определенность умопостигаемого мира как добра предполагает, что каждый его элемент (ноумен или идея) имеет безусловную самодовлеющую ценность, ни в чем не уступая другому, не являясь чем-то служебным и второстепенным для других идей. Соответственно, все идеи являются целями друг для друга.
Как известно, идеи И. Канта не имеют непосредственного отношения к миру чувственного опыта, но применяются к нему опосредовано, через категории, которые являются принципами синтезирования, оформления чувственности. Однако идеи имеют и непосредственное отношение к чувственному миру, правда, только в одном аспекте - практической способности человека действовать, поступать. Человек, как носитель теоретического разума, не вправе применять нормы и принципы разума напрямую к чувственной действительности, поскольку это будет телеологическим заблуждением. Но он, по И. Канту, правомерен напрямую применять принципы разума в одной особой сфере - отношении к себе подобным, к тем существам, которые также являются носителями разума. В этой сфере содержательная определенность мира идей как добра транслируется в требование обращаться с другими людьми так, как если бы они были идеями, то есть самодовлеющими, безусловно, значимыми целями, и никогда не обращаться с ними как со средством, используя их для чего-либо внешнего: «Во всем сотворенном все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство; только человек, а с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе» (Кант, 1997: 513).
Однако, поскольку человек является гражданином двух миров, - чувственного и умопостигаемого, то он может вести себя и в соответствии с принципами чувственной природы. Как существо чувственного мира, человек определяется своим склонностями, потребностями и влечениями. Могут ли они привести к моральному поведению в соответствии с категорическим императивом? С точки зрения И. Канта - нет, потому что императив чувственно-природной детерминации иной, он предполагает, что человек должен искать удовлетворения своим потребностям, нуждам, влечениям, используя для этого имеющиеся у него средства и инструменты. Поведение человека, как чувственно-природного существа, - центростремительно, эгоистично. Следовательно, индивид, определяемый чувственной природой и действующий для собственного удовольствия, поступает противоположно тому, что требует категорический императив, а именно: видит цель в себе, а в остальных - средство для удовлетворения своих потребностей.
В связи с этим, человек, как двоякодетерминированное существо, может поступать либо в логике умопостигаемого мира (обращаясь с другими людьми как с целями), либо чувственного мира (обращаясь с другими людьми как со средствами).
С точки зрения кантовской этики, естественный индивид как бы витает между природой и нравственностью. Объединить, синтезировать противоположные начала чувственности и духа, по И. Канту, невозможно, значит, нужно сделать выбор одного из этих начал. Какой же выбор может и должен осуществить человек?
Для И. Канта это может быть только выбор своей умопостигаемой сущности, то есть пола-гание себя как существа, безоговорочно следующего нравственному долгу, закону практического разума. Главный аргумент И. Канта в пользу выбора человеком добра, нравственного закона или ноуменального мира заключается в том, что, осуществляя нравственный выбор, следуя долгу, человек поступает в соответствии со своей высшей природой. Это позволит ему вырваться из плена природной необходимости и обрести свободу, которая, как известно, означает не своеволие, а внутреннюю причинность или автономию в противоположность гетерономии как определенности внеположной причинности.
Несмотря на то, что И. Кант, казалось бы, предлагает человеку единственно возможный вариант выбора нравственного долга, он все же допускает, что естественному двоякодетерми-нированному человеку сложно сделать этот шаг, сложно вступить на путь борьбы с чувственной природой, в религиозных терминах - на путь духовной аскезы. Поэтому он подкрепляет возвышенный аргумент реализации своей умопостигаемой природы дополнительными аргументами, призванными показать естественному человеку, почему ему выгодно быть нравственным.
Первый из них носит прагматический или утилитарно-рациональный характер: поведение в соответствии с правилом отношения к другим как средству не может стать всеобщим правилом, говорит И. Кант, ибо, если все будут вести себя соответствующим образом, общежитие станет невозможным. Фактически этот аргумент восходит к мысли Т. Гоббса о естественном состоянии, в котором имеет место война всех против всех. По сути, И. Кант говорит обывателю, что ему невыгодно следовать максиме отношения к другому как средству, потому что если так будут поступать все люди, то они придут в состояние войны всех против всех, и никто, в конечном итоге, не сможет нормальным образом удовлетворять свои жизненные потребности и достигать утилитарного счастья, ведь, как известно, существование человека в условиях войны всех против всех ничем не обеспечено - жалко и непредсказуемо.
Возможно, что оба аргумента - возвышенный и прагматический - казались самому И. Канту недостаточными для естественного человека, разрывающегося между чувственной и умопостигаемой природами, поэтому он подкрепляет их третьим аргументом - религиозным, или аргументом счастья. Философ утверждает, что необходимой целью практического разума является высшее благо, или счастье, и его беспокоит та очевидная мысль, что исполнение закона (добродетель) не приводит к счастью в феноменальном мире, что высшее благо недостижимо, исходя из морали, поэтому он постулирует наличие Бога и бессмертия. Только если к морали присоединяется религия, говорит И. Кант, «появляется надежда когда-нибудь достигнуть счастья (блаженства) в той мере, в какой мы заботились о том, чтобы не быть недостойными его» (Кант, 1997: 641), то есть были моральными.
И. Кант прикладывает немалые усилия, чтобы показать, что разум не может ни доказать, ни опровергнуть бытия Бога. Именно поэтому он говорит о том, что человеку дозволительно, не погрешая против разума, верить в существование Бога. Значит, у человека есть мотивация вести себя нравственно, ибо возможно, что в посмертном существовании он обретет воздаяние за свое нравственное поведение в виде счастья.
Если всех этих аргументов человеку недостаточно, чтобы сделать нравственный выбор, и он определяет себя как того, кто в своих отношениях с другими всегда будет руководствоваться исключительно категорическим императивом, то кантовскому моралисту не остается ничего иного, как отойти в сторону и заявить, что, если индивид не считается с нравственным законом и предпочитает удовлетворять свои склонности в ущерб нравственному долгу - тем хуже для него самого. Он будет пребывать в несвободе, гетерономии. Объективный нравственный миропорядок нисколько не пострадает от того, что тот или иной индивид не будет ему следовать; от этого он не перестанет существовать и иметь всеобщее значение, в том числе и для самого игнорирующего его индивида; для него он будет отрицательным путем обнаруживать свою необходимость в виде укоров совести. Таким образом, если человек не приходит к моральному образу жизни в силу того, что не может преодолеть отягощающее его чувственно-природное начало, то кантовский моралист относится к такому человеку с сочувствием, но ничего не может поделать и оставляет его на произвол судьбы.
Переходя к Ф.М. Достоевскому, следует отметить, что он, образно говоря, подхватывает человека там, где его оставляет кантовский моралист. Ф.М. Достоевского и И. Канта разделяют всего лишь полвека, однако этого достаточно для того, чтобы стремительно развивавшаяся европейская философская мысль далеко продвинулась в развенчании разума. В представлении Ф.М. Достоевского, безусловной связи между знанием и действием уже не существует, для него теоретический и практический разум - уже не одно и то же. Воля отрывается от разумных корней, приобретает автономный, произвольный, иррациональный характер, соответственно, разум становится все более инструментальным, а не субстанциальным.
Естественный индивид у Ф.М. Достоевского подвергает сомнению и оспариванию все три аргумента И. Канта в пользу морального поведения. Умозрительный аргумент свободы и следования своей высшей сущности не принимается на том основании, что оспаривается само отождествление воли и разума; что воля есть практический разум, всегда, подобно железу, притягиваемому магнитом, стремящийся к царству добра. Следование нормам разума есть не свобода, а такая же необходимость, как и следование желаниям.
Религиозный аргумент отметается по той причине, что он не может сказать о существовании Бога и бессмертия ничего достоверного и всего лишь дозволяет верить в Бога, допускает надежду на посмертное существование и загробное воздание. Однако герои Ф.М. Достоевского не довольствуются разрешением верить на том основании, что, веруя, они не будут впадать в противоречие с разумом. Человеку, по Достоевскому, нужны не возможностные, а достоверные аргументы в пользу Бога и бессмертия - в Бога следует верить не дозволительно, а непреложно. Герои Ф.М. Достоевского сомневаются в существовании Бога, а значит, и в необходимости морального поведения, что не раз было выражено писателем: «Нет добродетели, если нет бессмертия» (Достоевский, 1991: 80).
Формулу «если нет бессмертия, то все позволено» вслед за И. Кантом воспроизводят в мысли или на деле все герои Ф.М. Достоевского (Скоморохов, 2019: 128).
Прагматический аргумент относительно того, что придать эгоистическому поведению всеобщий характер невозможно, развенчивается с точки зрения еще более жесткой утилитарной прагматики. В ее основе - сомнительный религиозный аргумент: если моя жизнь конечна, а бессмертия нет, то вполне возможно, что, относясь на протяжении своей конечной жизни к другим как к средству, я смогу избежать того, чтобы самому попасть в разряд средства для других, так, чтобы это помешало мне приемлемым образом удовлетворять свои потребности и желания. Вести же себя нравственно, когда прочие ведут себя эгоистически, невыгодно, поскольку они будут пользоваться мной как средством, а я - нет, и в силу этого мое положение будет ущемленным.
Подобный ход мыслей открывает перед героями Ф.М. Достоевского иную антикантовскую перспективу - следовать не велению нравственного долга, а требованиям своих желаний и потребностей, то есть выбрать себя не как гражданина умопостигаемого мира, а как гражданина чувственного мира. Возвести в принцип жизненного поведения не нравственный, а антинрав-ственный закон, гласящий: обращайся с другими именно как со средством для твоего наслаждения и никогда - как с целью, и будь что будет.
Этот совершенно немыслимый для И. Канта шаг, который совершают герои Ф.М. Достоевского, является следствием разрыва воли и разума. Воля, растождествленная с разумом, оказывается способна делать выбор в пользу как одной, так и другой природы. Воля, в понимании И. Канта, не могла совершить выбор по принципу «или-или», но, будучи содержательно определенной нормами практического разума, могла делать только один истинно верный выбор в пользу добра, соответственно, зло не было равнозначно добру как принцип. Теперь же, поскольку воля не связана с разумом, но представляет собой отдельную независимую способность человека, оказывается возможным сделать выбор между добром и злом и тем самым впервые положить зло как принцип, равноценный добру.
Последствия такого самоопределения имеют масштабный характер. Если естественный индивид должен сообразовывать каждый поступок с нравственным законом, всякий раз преодолевая чувственную склонность, вступая в борьбу с самим собой, то самоопределившийся в пользу чувственности индивид, раз сделав выбор, тем самым освобождается от необходимости ежедневно и ежечасно подавлять чувственность как противоречащую долгу. Подобно тому, как нравственно определившийся человек становится устойчивым к давлению страстей, признавший себя ан-тинравственным становится невосприимчивым к голосу совести.
Совершивший выбор индивид - это уже не естественный, непосредственно-природный человек, но человек преступивший, сознательно отвергший нравственные заповеди. Это индивид, ставший личностью. Личность, по существу, - это самополагание, выбор себя таким, а не иным -в этом ее отличие от индивидуальности. Личностью становится как тот, кто делает выбор в пользу нравственного мира, так и тот, кто делает выбор в пользу чувственного мира. В последнем случае индивид становится демонической личностью - той, которая сознательно, методически и принципиально обращается с другими как со средством для удовлетворения своих потребностей и целей.
В результате выбора чувственности как принципа отношение к чувственному утрачивает непосредственный характер, становится опосредованным сознанием индивидуального долга. Прежние чувственные наслаждения приобретают небывалую остроту и напряженность в силу того, что демоническая личность осознает нарушение запрета, преступления морального закона. Как писал В. Соловьев: «Услаждаться деланием зла есть уже черта нечеловеческая» (Соловьев, 1991: 393).
Сознание этого преступления привносит дополнительный духовный ингредиент, порождающий избыточное наслаждение, которое значит едва ли не больше, чем само наслаждение. В отличие от непосредственно наслаждающегося естественного индивида, опосредствовавший себя индивид получает удовольствие не от самого наслаждения, а от сознания того, что наслаждается, то есть наслаждается своим наслаждением. В силу того, что непосредственное наслаждение теряет свою привлекательность, избыточное наслаждение можно получать даже от страданий и унижения, что Ф.М. Достоевский показывает на примере многих своих героев.
У Ф.М. Достоевского есть два основных типа героев, сделавших антинравственный выбор. Первый тип - это сладострастники, те, кто наслаждается запретными чувственными удовольствиями, а также те, кто извлекает чувственное наслаждение из унижения и страдания как других людей, так и самих себя. Это подпольный человек Карамазов-отец и многие другие. Несмотря на свою опосредованность, это наслаждение продолжает оставаться основанным на аффекте страсти.
Второй тип - это властолюбцы, те, кто наслаждается аффектом власти - ощущением своего превосходства и господства над другими. Это Ставрогин, Великий инквизитор. Начальным этапам становления властолюбца посвящен роман «Преступление и наказание». Между типами сладострастника и властолюбца есть переход: по мере того, как происходит пресыщение чувственными удовольствиями, личность может переходить к аффекту власти и получаемому от него более изощренному духовному наслаждению. Аффект власти сложнее аффекта страсти, поскольку властолюбец может думать, что он действует не во имя свое, а во имя людей, желая принести им пользу и счастье. Так думает Раскольников, находящийся в начале пути властолюбия. Так думает и достигший конца этого пути Великий инквизитор, который практически не ощущает своего тонкого наслаждения, напротив, считает, что он несет бремя служения, чтобы давать людям счастье, позволяя им удовлетворять свои частные потребности и получать маленькие радости.
На первый взгляд, положение демонических личностей довольно устойчиво: они господствуют над конформистским большинством естественных людей с их неопосредованным отношением как к царству нравственного закона, так и к царству чувственной эмпирии. Однако в своем художественном исследовании демонических личностей Ф.М. Достоевский указывает, что их положение отнюдь не столь прочно, как может казаться. Это связано с тем, что, основывая свое благополучие на видимом господстве как над своими чувствами (сластолюбцы), так и над другими людьми (властолюбцы), демонические личности на деле находятся от них в зависимости. Они подобны огню, пламя которого нужно постоянно поддерживать новыми горючими материалами. Если обычный индивид, который ни холоден, ни горяч, но все же естественным образом ориентирован на нравственный идеал, испытывает укоры совести за то, что не всегда следует нравственному закону ввиду слабости своей чувственно-телесной природы, то демоническая личность, определившая себя как антинравственную, укоров совести не ощущает, однако испытывает нарастающие отчаяние и тоску, вызванные сознанием своей зависимости от других людей, которых она рассматривает как средство и, соответственно, презирает. Демоническая личность все больше ненавидит свою зависимость от тех, кого считает ниже себя. Прослеживая путь демонизма, Ф.М. Достоевский показывает, что в демонической личности нарастает склонность к разрушению мира, который она более не приемлет, которая затем переходит в следующую стадию - саморазрушения».
Есть ли средство преодоления демонизма? П. Гайденко в своей книге «Трагедия эстетизма» прослеживает подобную коллизию на примере другого экзистенциального мыслителя -С. Кьеркегора, который также рассматривал проблематику человека, определившего свою чувственность как принцип. П. Гайденко указывает, что к демонической личности более не применим обращенный к естественному индивиду призыв И. Канта - прислушаться к голосу совести и совершить нравственное самоопределение - потому что этот индивид уже выбрал себя, стал личностью, моральным существом, но со знаком минус, то есть выбрал не добро, а зло в качестве определяющего принципа (Гайденко, 1997: 186). Человек уже употребил свою волю, но для того, чтобы встать на сторону зла. Для такого человека уже бесполезно взывать к его совести и предлагать путь этического исправления. Нужно более сильное средство, и П. Гайденко показывает на примере размышлений С. Кьеркегора, что этим средством является религия (Гайденко, 1997: 194). Более точно - надежда на чудо, на спасение. Как известно, С. Кьеркегор сделал ставку на личную связь человека с Богом, который способен совершить чудо в отношении отдельной личности, подобно тому, как Бог вернул Иову его стада, и подобно тому, как Бог, даже если бы Авраам принес в жертву Исаака, смог бы вернуть ему сына. В этом смысле ставка С. Кьеркегора – это безусловная вера вопреки разуму. То есть, по сути, абсурдная вера во всемогущее существо, которое способно откликнуться на взывание отдельного человека из глубины своего отчаяния и совершить для него чудо, сделать бывшее не бывшим. Противоположностью демонической личности может быть уже не столько нравственная, сколько «священная» личность, сумевшая войти в общение с Богом.
Фактически к такому же выводу приходит и Ф.М. Достоевский, а именно: для демонических личностей, которые достигли крайних пределов властолюбия и которым грозит самоуничтожение от пресыщения и отчаяния, единственным спасением является надежда на божественную помощь свыше. Ф.М. Достоевский и сам ощущал демонические искушения, боролся с ними, искал выход из тупика демонизма. Свою формулу спасения он выразил так: «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной» (Достоевский, 1996: 96).
Многих смущает неортодоксальный характер этих слов о Христе, но Ф.М. Достоевский, как и С. Кьеркегор, ищет нового христианства – христианства, обращенного к современной личности, которая стремится устроить себя своими собственными силами, однако на пути ложного выбора зашла так далеко, что уже не может самостоятельно повернуть вспять и предотвратить свою гибель. И тогда она прибегает к последнему средству – взыванию из глубины (de profundis). Вера в такого Христа, которого возглашает Ф.М. Достоевский, столь же абсурдна, как вера С. Кьеркегора (ибо он говорит, что готов верить, даже если Христос вне истины) и совершенно противоположна духу рационального просвещения И. Канта, хотя и отвечает главным выводам кантовского учения. В полном соответствии с духом кантовского превознесения практического разума над теоретическим Ф.М. Достоевский не утверждает, что Христос есть непременно истина, но постулирует своей волей, что Христос как будто есть истина и провозглашает свое намерение придерживаться этого постулата строго и последовательно в надежде, что это принесет ему спасение.
В этой связи показательна поэма о Великом инквизиторе, к которому приходит Христос. Великий инквизитор является высшим типом реализовавшей себя демонической личности с безграничным властолюбием, воплотившей «теорию о вседозволенности на практике» (Скоморохов, 2019: 128), что привело его к фактически неограниченному господству.
Великий инквизитор напоминает соловьевского Антихриста, который, как известно, также печется об устроении подвластного ему человечества. Однако в свете вышесказанного возможно предположить, что Великий инквизитор томится о Христе, в глубине души жаждет его прихода. Казалось бы, Великий инквизитор достиг высшей власти, подчинил себе весь мир, однако его душе нет покоя, аффект власти не находит успокоения, хочет следовать дальше, а дальше – это уже переход за грань существования, самоубийство. Вполне возможно, что Великий инквизитор вплотную подошел к этому пределу. Он, по-видимому, раздосадован приходом Христа и пускается в софистические рассуждения и самооправдания. Однако Христос не отвечает ему, потому что и Христос, и сам Инквизитор в глубине своего сердца, куда он опасается заглядывать, знают, что он неправ. В конце встречи Христос запечатлевает поцелуй на устах Великого инквизитора, и тот просит Христа уйти. Христос уходит, и история на этом повисает, не находит своего разрешения. Мы не знаем, что произошло дальше. Автор поэмы Иван Карамазов говорит, что «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее» (Достоевский, 1991: 296). Однако возможно, что это не совсем так.
Здесь хотелось бы прибегнуть к одной аналогии из творчества А.С. Пушкина, которого Ф.М. Достоевский считал своим духовным учителем. В «Пире во время чумы» Председатель пира отвергает попытки священника отвлечь пирующих от их чудовищного пира, от наслаждений во время чумы, посреди смерти, взывая к нормам традиционных религиозных добродетелей покаяния и смирения. Отвергает на том основании, что пирующие и, прежде всего, он сам, сознательно сделали иной выбор. Председатель говорит священнику, что он удержан на пиру сознанием своего беззакония, то есть преступления. Он осознанно сделал выбор в пользу наслаждения вместо смирения. И, очевидно, получает наслаждение от своего беззакония и от того, что наслаждается в то время, когда этого никто не делает, когда все стенают и плачут. Но одновременно Председатель пребывает в отчаянии. Он находится в сильнейшей раздвоенности. Отчаяние это связано с тем, что, с одной стороны, сознавая свое беззаконие, он отбросил всякую надежду на спасение, но, с другой – сохраняет стремление к этому спасению. Поэтому он отвер- гает традиционный путь добродетели, но внезапно реагирует на приоткрывшийся ему путь чудесного спасения, когда священник говорит, что его может спасти высшее существо, в данном случае – его умершая жена, «святое чадо света» (Пушкин, 1960: 381).
У Председателя появляется проблеск мысли, что извлечь его из того состояния, в которое он сам себя вверг своим свободным выбором и из которого он не в силах выбраться собственными усилиями, может чудо, любовь и заступничество высшего существа. Фактически перед ним, как перед героями С. Кьеркегора, вдруг встает возможность сделать бывшее не бывшим, возможность того, что он сможет вернуть себе умершую жену и вновь стать «чистым, гордым, вольным», каким он был ранее. Он не уходит с пира, но как бы выбывает из него, нарушает его течение, ибо больше не пирует, не предается наслаждениям, но погружается, как пишет А.С. Пушкин, в «глубокую задумчивость» (Пушкин, 1960: 381), упорное размышление о том, что он увидел. Это задумчивость человека, который вдруг почувствовал, что его беззаконие, его вина может быть изжита не собственными действиями, а тем, что ему будет даровано прощение свыше.
Возможно, что и в поэме Ивана Карамазова Великий инквизитор не вполне остается в прежней идее, потому что Христос поцеловал его в уста, но этот поцелуй горит не на устах, а «на сердце». Не исключено, что после такого видения Великий инквизитор впадет в такую же «глубокую задумчивость», амеханию, в какую впадает имеющий сходство с демоническими героями Ф.М. Достоевского пушкинский Председатель пира, и выход из нее не предопределен. Да, Великий инквизитор может остаться в прежней идее, но он может и последовать за Христом, как о том мечтал сам Ф.М. Достоевский, и тогда наутро его более не найдут в его дворце или, как сказано в поэме, «в древнем здании Святого судилища» (Достоевский, 1991: 281). То, что такой вариант развития событий возможен, говорит контекст романа, в который помещена поэма. Алеша угадывает, что сам автор поэмы Иван находится на грани самоубийства, пребывает в отчаянии перед подступившим к нему небытием (Достоевский, 1991: 296). И что Иван сочинил поэму, поскольку жаждет прихода Христа к нему самому, чтобы он вывел его из бездны демонизма, вернул утраченное состояние цельности и чистоты, сделал бывшее не бывшим. Поэма о Великом инквизиторе – это замаскированное «взывание из глубины» ее автора Ивана, а через него и самого Достоевского – к Богу.
Допустима такая интерпретация или нет, в любом случае, очевидно, что Ф.М. Достоевский не видит иного способа избавления от демонизма, кроме религиозного потрясения и действительного чуда, нарушающего закономерное течение действительности. То преступление против нравственности, которое сознательно совершает демоническая личность, преодолевается, с точки зрения Ф.М. Достоевского, уже не собственными действиями этой личности и не силой нравственного закона, а иной, более высокой силой – силой любви к человеку Бога.
Список литературы Этические подходы Канта и Достоевского: сравнительный аспект
- Гайденко П.П. Трагедия эстетизма: о миросозерцании Серена Кьеркегора // П.П. Гайденко. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М., 1997. С. 11-207.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений: в 15 т. Л., 1991. Т. 9. С. 5-570.
- Достоевский Ф.М. Письмо к Н.Д. Фонвизиной. Конец января - 20-е числа февраля 1854 г. // Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений: в 15 т. CПб., 1996. Т. 15. С. 95-98.
- Кант И. Критика практического разума // И. Кант Сочинения: в 4 т. на немецком и русском языках. М., 1997. Т. 3. С. 277-733.
- Пушкин А.С. Моцарт и Сальери // А.С. Пушкин Собрание сочинений: в 10 т. М., 1960. Т. 4. С. 373-381.
- Скоморохов А.В. Проблема объяснения зла: от Канта к Достоевскому // Философия и общество. № 4. 2019. С. 123-134. DOI: 10.30884/jfio/2019.04.08 EDN: DKBFFL
- Соловьев В.С. Лермонтов // В.С. Соловьев. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 379-398.