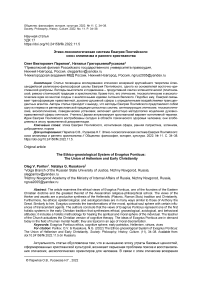Этико-гносеологическая система Евагрия Понтийского: союз эллинизма и раннего христианства
Автор: Парилов О.В., Русакова Н.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию этических воззрений крупнейшего теоретика Александрийской религиозно-философской школы Евагрия Понтийского, одного из основателей восточно-христианской доктрины. Взгляды мыслителя и подвижника - продуктивной синтез эллинистической (платоновской, римско-стоической) традиции и христианства. Кроме того, его этические, гносеологические и аксиологические идеи во многом сходны с аналогичными идеями Антония Великого. Подобно ему, Евагрий связывает трансформации нравственной, духовно-душевной сферы с определенными воздействиями трансцендентных агентов. Авторы статьи приходят к выводу, что взгляды Евагрия Понтийского представляют собой одну из первых в раннехристианской традиции целостных систем, синтезирующих этические, гносеологические, аксиологические, поведенческие установки; включает целостную методологию исцеления духовнонравственной сферы личности. Учитель Церкви актуализирует христианский вариант когнитивной терапии. Идеи Евагрия Понтийского востребованы сегодня в области психического здоровья человека; они злободневны в эпоху нравственной дезориентации.
Этика евагрия понтийского, когнитивная сфера, ранняя патристика, эллинизм, добродетели, пороки
Короткий адрес: https://sciup.org/149141915
IDR: 149141915 | УДК: 17 | DOI: 10.24158/fik.2022.11.5
Текст научной статьи Этико-гносеологическая система Евагрия Понтийского: союз эллинизма и раннего христианства
мыслителя и подвижника ранней патристики Евагрия Понтийского имеют непреходящее значение, особенно злободневны в XXI в.
Представителя Александрийской религиозно-философской школы Евагрия Понтийского справедливо позиционируют как крупнейшего теоретика и систематика раннехристианской этики. Он, безусловно, занимает достойное место в ряду основателей восточного-христианской доктрины. Родился Евагрий в 345 г. в городе Ивора. Он был греком, сыном епископа. Большое участие в его духовном формировании принял Василий Великий, который определил его в чтецы и духовно окормлял до самой своей смерти в 379 г. На дальнейший духовный рост Евагрия Понтийского оказал значительное влияние Святой Григорий Богослов, рукоположивший своего ученика в диаконы. Затем, в силу обстоятельств, Евагрий бежит в Палестину и принимает там монашество. Однажды во сне он переживает мистическое видение: для спасения души он должен уйти в египетскую пустыню, что он и делает (Bamberger, 1981). Там, последние 14 лет до своей смерти в 399 г., Евагрий подвизается в кругу нитрийских монахов, практикуя строгую аскетическую жизнь и изучая сочинения Оригена.
Понтийский подвижник становится учителем, отличавшимся «величайшим смирением и добротой, опытным знанием духовной жизни и путей стяжания добродетелей»1; учителем, за назиданием к которому приезжали люди даже из других стран. Особенно ценна этическая составляющая его философско-богословских сочинений – в этом сходятся многие исследователи его творчества (В. Франкенберг, И. Хаушер, Х. У. Балтазар, Ю. Константиновская и др.).
Как наследник античной, восходящей к Платону традиции, Евагрий Понтийский – ярко выраженный интеллектуал. Однако, подобно Антонию Великому, подвижник значительное место в своем духовном учении отводит демонологии. Связь этики с демонологией в целом характерна для раннего Восточного христианства. Тонкий и глубокий философ-антрополог, Евагрий, как и Антоний Великий, связывает трансформации нравственной, духовно-душевной сферы человека с определенными демоническими воздействиями.
Евагрия Понтийского с Антонием Великим роднит и то, что оба духовных учителя напрямую связывают этическую сферу с когнитивной. И в этом они предстают наследниками античной позднестоической традиции. По их убеждению, контроль над порождаемыми демоническими воздействиями страстями лежит в области умственной сферы; это, как пишет M. Mueller, своего рода «практика когнитивной терапии» (Mueller, 2018, с. 62). Евагрию Понтийскому принадлежит роль автора первой систематической методологии христианской когнитивной терапии, основанной на категоризации и ранжировании демонических греховных помыслов и методов их преодоления. Его труды, по сути, представляют собой христианский гнозис этических, духовных проблем. Данные идеи востребованы и в настоящее время профессионалами в области психического здоровья человека2.
Евагрий выделяет восемь ключевых страстных помыслов – мыслей, являющихся первопричиной всех пороков: Γαστριμαργία (обжорство) , Πορνεία (прелюбодеяние) , Φιλαργυρία (скупость), Λύπη (грусть из-за успехов других), Ὀργή (гнев) , Ἀκηδία (уныние, депрессия) , Κενοδοξία (хвастовство) , Ὑπερηφανία (гордыня, заносчивость). Позже трудами Иоанна Кассиана эти греховные помыслы, будучи переведенными на латынь, обрели форму пресловутых семи смертных грехов, стали неотъемлемой частью католического богослужения3: Gula (обжорство) , Luxuria/Fornicatio (похоть, прелюбодеяние) , Avaritia (жадность) , Tristitia (печаль, депрессия, отча яние) , Ira (гнев) , Acedia (лень) , Vanagloria (тщеславие) , Superbia (гордость, спесь) 4.
Как и стоики, считающие, что эмоциональные, поведенческие трансформации, зарождение страстей – плод ошибок в области суждений, Евагрий Понтийский утверждает нечистые помыслы, детерминирующие определенные грехи: обжорство, нечистота, алчность, печаль, гнев, тщеславие и гордость представляют не только страсти как таковые, но и своего рода демонов, которые провоцируют эти страсти. Если Антоний Великий лишь описывает демонические влияния на человека (это отражено в его «Житии…»), то Евагрий стремится классифицировать эти демонические воздействия, встраивая их в целостную гносеолого-этическую систему: одни помыслы более опасны других или опасны по-своему. Например, «Самая жестокая страсть – это гнев ... Он постоянно раздражает душу и, прежде всего, во время молитвы захватывает разум и представляет ему картину оскорбленного публично человека»1. Некоторые греховные мысли имеют тенденцию сочетаться друг с другом или друг друга усиливать. Так, «дух тщеславия очень коварен и растет в душах тех, кто практикует добродетель, порождает желание публично заявлять о своей духовной борьбе, искать похвалы у других людей, порождает иллюзию способности исцелять женщин. Когда же искушаемый возносится в своих мечтах, демон исчезает, и монах остается искушаем демоном печали, зарождающим мысли, противоположные предыдущим тщетным надеждам <...> Иногда бывает, что человек, преуспевший в аскетизме, предается демону нечистоты, прелюбодеяния»2. Самые серьезные неприятности причиняет демон Ἀκηδία. Когда он воздействует на человека, «тому кажется, что солнце еле движется, что день длится пятьдесят часов <...> Демон вселяет в сердце монаха ненависть к этому месту и к самой своей жизни, ненависть к физическому труду <...> Никакой другой демон не идет вслед за этим (если он потерпел поражение). Из этой последней победы над демоническими воздействиями возникает состояние глубокого покоя и невыразимой радости»3.
Евагрий Понтийский разрабатывает системную методологию исцеления этической сферы человека. Методы, предлагаемые Евагрием, по убеждению M. Mueller, «имеют много сходных черт с техниками римских стоиков: Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, но с отчетливым христианским колоритом» (Mueller, 2018, с. 67). Например, «подпав под влияние демона Ἀκηδία, мы должны сеять семена твердой надежды на себя, воспевая вместе с Давидом – “Почему прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица моего и Бог мой!”» (Пс. 41: 5).
Евагрий соединяет когнитивные техники с поведенческими. Alexis Trader в связи c этим верно отмечает: «Эта координация между мыслью и поведением связывает субъективную реальность восьми злых помыслов с объективной реальностью конкретных действий, которую можно наблюдать и измерять со стороны. Кроме того, если плохие мысли могут быть сформулированы в поведенческих терминах, их противоядия также могут быть сформулированы аналогичным образом. Например, обжорство можно исправить воздержанием, нечистоту – стремлением к Богу и Его благословениям; жадность – состраданием к бедным и благотворительностью; гнев – любовью ко всем людям; уныние – духовной радостью; Ἀκηδία – терпением, настойчивостью и благодарением Богу; тщеславие – деланием добра тайно <...> На каждую дурную мысль верующему дается мысль – антипод, которую нужно культивировать, чтобы данная дурная мысль могла быть отсечена этой несовместимостью» (Trader, 2012).
Однако при этом Евагрий Понтийский отдает предпочтение когнитивным техникам перед поведенческими, во всяком случае, в отношении монахов. Он это обосновывает следующим образом: «Демоны борются с мирянами через дела, а с монахами – посредством мысли, так как пустыня лишает их подобных дел. Поскольку легче согрешить мыслью, чем делом, то и война в области мысли более жестока, чем та, которая ведется в области вещей и земных дел, ибо ум легко возбуждается и трудно контролируется при наличии греховных фантазий»4.
Когнитивная терапия Евагрия Понтийского далека от выстраивания прямых связей между духовной этической проблемой и конкретной техникой ее решения – это было бы недопустимым упрощением. Во главу угла подвижник ставит осторожную проницательность и мудрость, чтение Священного Писания и молитву – это главные условия стабилизации блуждающего ума. Телесное воздержание (главным образом в пище), тяжелый труд, одиночество гасят нечистые желания. Гнев успокаивается пением псалмов, терпением и милостыней. Но все эти практики действенны в определенной мере и в свое время. Все делаемое несвоевременно и без меры недолговечно, считает христианский мыслитель. А недолговечное лишь повреждает этическую сферу и в конечном счете наносит вред душе5.
В этической системе Евагрия Понтийского значительная роль отводится добродетелям. Этика добродетелей Евагрия базируется на его философско- антропологических воззрениях, сходных с установками Антония Великого. Как и Святой Антоний, Евагрий – последователь платоновского подхода к устроению души6. Во-первых, доминирующее качество души – ее разумность: «одарена умом и разумом... Ум в душе подобен оку в теле»7. Во-вторых, душа трехчастна, включает разумное, желательное и яростное. Каждая часть души формирует определенные добродетели: ключевая разумная часть – «благоразумие, разумение и мудрость… желательная – целомудрие, любовь и воздержание; яростная – мужество и терпение; вся же душа – праведность <...> Дело благоразумия – защищать добродетель и противостоять порокам... разумения – способствовать достижению высшей цели... мудрости – созерцать логосы вещей; целомудрия – бесстрастно созерцать вещи ...любви – представлять себя каждому образу Божию... как Первообразу <...> воздержания – с радостью отвергать всякое наслаждение <...> терпения и мужества – не бояться врагов <...> праведности – добиваться... гармонии частей души»1. Таким образом, в русле эллинистической традиции церковный учитель этику соединяет прежде всего с мудростью. Верно интерпретируя взгляды подвижника, Н. И. Сидоренко отмечает, что разумное начало как главнейшее и качественно определяемое мудростью «ведет познающего мир по пути добродетелей и обращает знания на пользу людям» (Сидоренко, 2013). Созерцать логосы вещей способен лишь чистый ум, «нечистый же задерживается... страстью в созерцании чувственных ве-щей»2. В конечном счете разумное начало, считает подвижник, должно одержать верх над желательным и яростным началами. Итак, лишь добродетельный человек, полагает церковный писатель, способен стать подлинным умозрителем, т. е. «твердый, совестливый, не гневливый, милостивый, доброжелательный, общительный, освободившийся от памятозлобия, печали и сребролюбия, способный противостоять отвлекающим от созерцания помыслам»3. Мы еще раз убеждаемся, насколько гносеология Евагрия Понтийского тесно связана с этикой.
Евагрий не разрабатывает списка добродетелей, противопоставляемых восьми ключевым греховным помыслам. Однако подвижник утверждает, что добродетели играют большую роль в духовном прогрессе человека. Он пишет: «Человек, выработавший в себе добродетели и пропитанный ими, больше не помнит закона или наказания, а все делает в силу доброй привычки»4. Наибольшее значение он придает таким добродетелям, как умеренность, смирение, апатия (бесстрастие): «Вне всякого сомнения, способность смирением отогнать мысли о тщеславии или способность отгонять демона нечистоты воздержанием – самое яркое свидетельство апатии»5. Складывается впечатление, что апатии мыслитель отводит главенствующую роль. Обретение бесстрастия (апатии), по Ева-грию, означает не что иное, как наведение порядка внутри себя, без чего «ум ... не может ... достичь области нетелесных сущностей». Апатия – «спокойное состояние разумной души, образующееся из кротости и целомудрия»6. Но иногда христианский мыслитель отдает предпочтение иным добродетелям. Например, в одном месте он пишет: «Царство Небесное – это душевная апатия, наряду с истинным знанием сущего»7. В другом подвижник утверждает: «Цель аскетической жизни – милосердие, цель созерцательного знания – это богословие. Начало всего – вера и созерцание природы»8.
Позже христианская церковь противопоставит семи смертным грехам семь ключевых добродетелей: похоти – целомудрие, чревоугодию – умеренность, жадности – благотворительность, щедрость; лени – трудолюбие, гневу – терпение, зависти – благодарность, доброту; гордыни – смирение (Собко, 2020). Влияние этических воззрений Евагрия Понтийского на последующих христианских авторов велико. Оно прослеживается в трудах ортодоксальных восточно-христианских мыслителей: Максима Исповедника, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина; одного из основоположников западнохристианской монашеской богословской традиции Иоанна Кассиана (об этом сказано выше). На арабском Востоке последователем Евагрия был яковитский (монофизитский) епископ Бар-Эбрей (Беневич, 2020). Особенно важно то, что благодаря Евагрию Понтийскому в христианской традиции сформируется и получит законченное выражение целостный систематизированный этический корпус.
Список литературы Этико-гносеологическая система Евагрия Понтийского: союз эллинизма и раннего христианства
- Беневич Г.И. Евагрий Понтийский и палестинская философско-богословская традиция // Acta Еогит. 2020. Вып. 34. С. 10.
- Сидоренко Н.И. Философские основания науки в трудах Евагрия Понтийского // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2013. № 3. С. 48.
- Собко Р.В. Sancta Quarantena: чистота и нечистота в текстах Ветхого и Нового Заветов и их последующая интерпретация // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2020. № 18. С. 173.
- Bamberger. J. "Introduction" in The Praktikos and Chapters on Prayer. Kalamazoo, 1981. P. XXXV-XLII.
- Mueller M. The Stoic Roots of Christian Asceticism and Modern Psychotherapy: Similarities and Differences. Minnesota, 2018. 96 p.
- Trader A. Ancient Christian Wisdom and Aaron Beck's Cognitive Therapy: A Meeting of Minds. New York, 2012. P. 79.