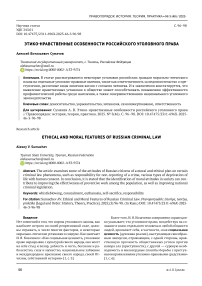Этико-нравственные особенности российского уголовного права
Автор: Сумачев А.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые установки российских граждан морально-этического плана на отдельные уголовно-правовые явления, такие как ответственность за недоносительство о преступлении, различные виды лишения жизни с согласия человека. И в заключении констатируется, что выявление нравственных установок в обществе может способствовать повышению эффективности профилактической работы среди населения, а также совершенствованию национального уголовного законодательства.
Доносительство, укрывательство, эвтаназия, самопожертвование, ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14134021
IDR: 14134021 | УДК: 343.01 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-96-98
Текст научной статьи Этико-нравственные особенности российского уголовного права
Нет сомнений в том, что нормы уголовного закона, как наиболее острого по своей репрессивной силе, должны отражать, в числе многих факторов, и некоторые морально-этические установки в социуме. Как замечает И. Я. Козаченко: «Как социальная ценность, уголовное право неразрывно с культурой своего народа, оно несет на себе стыд и позор, доблесть и честь, бессилие и раболепство, силу и мужество, национальное забвение и международное признание своего народа, своей Отчизны, собственной истории» [1, с. 5].
Более того, И. Я. Козаченко совершенно справедливо указывает, что уголовное право, воздействуя на сознание и волю отдельного человека и любой общности людей, проявляет себя, в частности, «как социальная ценность (духовная реалия), выступающая своеобразным лакмусом, отражающим, с одной стороны, нравственную прочность общественных устоев против напора зла (преступности), с другой — суровую необходимость и милосердные способы борьбы с преступными проявлениями уголовно-правовыми средствами» [1, с. 6].
И здесь я озвучу мысли, сформированные где-то на основе интуиции, где-то на основе того, что я сам живу и тружусь в обществе, а не в отрыве от него, где-то на основе результатов собственных эмпирических исследований, где-то на основе идей, в разное время высказанных представителями науки.
Описание исследования
Так, российский обыватель убежден, что, например, любое сокрытие фактов о готовящемся или совершенном преступлении (как в форме недоносительства, так и в форме заранее не обещанного укрывательства) уголовно наказуемо. Какие выводы можно сделать из этого? Предположение о возможности привлечения к уголовной ответственности за недоносительство отрицательно сказывается на самом отношении граждан к уголовному закону, а равно отношении к правоохранительным органам в целом. Основу отрицательного отношения к доносительству, по-видимому, заложили известные события 30-х годов XX-го столетия. И помню, как еще во времена обучения в юридическом вузе преподаватели уголовного права с восторгом говорили нам об изменениях от 29 апреля 1993 года в ст. 18 «Укрывательство» и ст. 19 «Недонесение» УК РСФСР, в соответствии с которыми не подлежали уголовной ответственности: за заранее не обещанное укрывательство — супруг и близкие родственники лица, совершившего преступление; за недонесение –супруг и близкие родственники лица, совершившего преступление, а также священнослужитель о преступлении, ставшим ему известным из исповеди. И едва ли не единственным аргументом такого решения законодателя, по их словам, было то, что сильное государство, борясь с преступностью, не имеет права заставлять своих граждан доносить на близких им людей. В 1996 году принятый Уголовный кодекс Российской Федерации, продолжая традицию морального осуждения «доносительства», вообще «забыл» о недонесении как преступлении.
Однако заметим, что напряженность в обществе, вызванная чудовищными актами терроризма (Москва, Буденовск, Беслан), существенно скорректировали общественное мнение относительно недонесения о готовящихся актах терроризма. В частности, по данным А. В. Зарубина из более чем 200 опрошенных граждан лишь два человека возражали против установления уголовной ответственности за заранее не обещанное несообщение о готовящемся акте терроризма [2, с. 159]. Как видно, происходит морально-этическая переоценка «доносительства» как безнравственного акта. Происходит, хотя очень медленно и выборочно. В частности, Федеральным законом от 06 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [3] УК РФ был дополнен ст. 205.6 «Несообщение о преступлении», в соответствии с которой уголовной ответственности подлежит лицо за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. При этом согласно примечанию к данной статье, лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником. Аналогичного рода примечания содержатся в ст. 308 «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний» 1 и ст. 316 «Укрывательство преступлений» 2 УК РФ.
Заметим, что в настоящее время ст. 205.6 УК РФ называется не «Недонесение» как в УК РСФСР 1961 г., а «Несообщение о преступлении».
Отдельно можно поставить вопрос о моральноэтических установках современной российской молодежи. Весьма показательными, в этой связи, являются результаты проведенного нами анкетирования на предмет отношения россиян к вопросам эвтаназии 3. В частности, среди прочих звучал вопрос об уголовно-правовом значении согласия лица на причинение ему смерти другим человеком. При этом 16,4 % опрошенных граждан не проводят границы между убийством с согласия и обычным убийством, 10,9 % — видят разницу лишь в возможности смягчения наказания за первые случаи. Абсолютное же большинство — 72,7 % — выступают либо за ненаказуемость всех видов убийств с согласия (8,9 %), либо за ненаказуемость отдельных его видов (63,8 %). Однако, как видим, действующий уголовный закон наказывает все случаи убийства, хотя порой и учитывает ситуации, при которых оно совершено.
И еще немного весьма интересной информации относительно ненаказуемости специфических видов лишения жизни с согласия. Среди них, в частности, в анкете приводился примерный их перечень:
– лишение врачом жизни неизлечимо больного пациента по его просьбе (эвтаназия);
– лишение жизни неполноценного новорожденного ребенка по просьбе его родителей;
– лишение жизни тяжело раненого человека во время экстремальной ситуации (военных действиях, стихийных бедствиях и др.);
– лишение жизни человека — объекта научного эксперимента при проведении такого эксперимента;
– иные виды лишения жизни с согласия.
Сразу отметим, что среди иных видов конкретных случаев ненаказуемого лишения жизни предложено не было. Соответственно, анализ отношения респондентов к ненаказуемым видам лишения жизни человека с его согласия мы проводили на основе названных выше примеров. И здесь мы хотим акцентировать внимание на отношении граждан к убийству с согласия в зависимости от возраста анкетируемых.
Молодежная категория лиц относится к эвтаназии и лишению жизни неполноценного новорожденного ребенка по просьбе его родителей более осторожно, нежели старшая группа. Причина, по-видимому, здесь кроется в недостаточно богатом жизненно-бытовом опыте: отсутствие сведений об эвтаназии либо отсутствие собственных детей и т. п. Более того, существенная разница в пропорциях мнений относительно лишения жизни неполноценного новорожденного ребенка по просьбе его родителей у женщин молодежного и зрелого возрастов (в 5,07 раза), является свидетельством ничем неопороченного инстинкта материнства.
Диаметрально противоположная картина проявляется при анализе соотношения (пропорций) общего числа респондентов к сторонникам легализации лишения жизни тяжело раненого человека во время экстремальной ситуации (военных действиях, стихийных бедствиях и др.) или лишения жизни человека-объекта научного эксперимента при проведении такого эксперимента. И здесь молодежные группы (от 17 до 19 лет) обоих полов преподносят «сюрприз»: в обоих случаях их пропорции (в сравнении с лицами более старшего возраста) достаточно велики (5,82: 1 и 14,88: 1 — у мужчин,
9,16: 1 и 11: 1 — у женщин, в то время как у лиц старше 30 лет склонность к легализации анализируемых видов лишения жизни либо мала, либо вообще отсутствует). Какой здесь напрашивается вывод? Опять же отсутствие жизненного опыта у молодежи. С другой стороны, юношеский задор, вера в себя как в двигатель прогресса или ключевую фигуру в истории, пусть даже «районного» масштаба, — вот те факторы, определяющие качество ответа по анкете.
Можно, однако, констатировать и тот факт, что, несмотря на порой нелестные отзывы о современной российской молодежи, она отличается повышенным чувством самопожертвования. Действительно, отвечая на вопрос о наказуемости/ненаказуемости лишения жизни с согласия в условиях экстремальной ситуации или проведения научного эксперимента, анкетируемый поневоле ставит себя на место лица, дающего согласие, а никак не исполняющего такую просьбу. А согласиться (даже абстрактно) на ненаказуемость своего «убийцы» ради спасения других или ради достижения общественно полезной цели вообще — дело весьма непростое. В этой связи представляется нравственно обоснованным наличие в уголовном законе института обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Заключение и вывод
Таким образом, выявление нравственных установок в социуме может (и должно) способствовать не только повышению эффективности профилактической работы среди населения, но и совершенствованию национального уголовного законодательства.