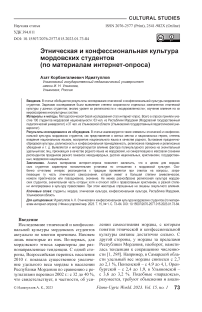Этническая и конфессиональная культура мордовских студентов (по материалам интернет-опроса)
Автор: Идиатуллов А. К.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье обобщаются результаты исследования этнической и конфессиональной культуры мордовских студентов. Задачами исследования были выявление степени сохранности отдельных компонентов этнической культуры у данных студентов; анализ уровня их религиозности и «воцерковленности»; изучение влияния на их мировоззрение инокультурных систем. Материалы и методы. Методологической базой исследования стал интернет-опрос. Всего в опросе приняли участие 100 студентов мордовской национальности: 63 чел. из Республики Мордовия (Мордовский государственный педагогический университет) и 37 чел. из Ульяновской области (Ульяновский государственный педагогический университет). Результаты исследования и их обсуждение. В статье анализируются такие элементы этнической и конфессиональной культуры мордовских студентов, как представления о святых местах и национальных героях, степень владения национальным языком, восприятие национального языка в качестве родного, бытование празднично-обрядовой культуры, религиозность и конфессиональная принадлежность, религиозное поведение и религиозные убеждения и т. д. Выявляется и интерпретируется влияние фактора поликультурного региона на значительный удельный вес лиц, признающих в качестве родного языка не мордовский, на синкретизацию в массовом сознании респондентов праздников разного генезиса: международных, русских национальных, христианских, государственных, мордовских национальных. Заключение. Анализ материалов интернет-опроса позволяет заключить, что в целом для мордовских студентов характерна положительная установка по отношению к мордовской культуре. Особенно отчетливо интерес респондентов к традиции проявляется при ответах на вопросы, затрагивающие ту часть этнического самосознания, которая имеет в большей степени символическое, нежели практическое или повседневное, значение. Не менее разнообразна религиозная культура мордовских студентов, значительная часть которых хотя и относит себя к православным христианам, в разной степени интегрирована в культуру православия. При этом некоторые опрошенные не лишены оккультного влияния.
Студенты, мордва, этническая культура, конфессиональная культура, республика мордовия, ульяновская область
Короткий адрес: https://sciup.org/147240191
IDR: 147240191 | УДК: 394.011 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.01.73-84
Текст научной статьи Этническая и конфессиональная культура мордовских студентов (по материалам интернет-опроса)
Исследование этнической и конфессиональной культуры мордовских студентов актуально по многим причинам. Назовем лишь некоторые из них. Во-первых, для мордовского этноса характерны две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, Всероссийская перепись населения 2010 г. показала существенное увеличение удельного веса мордвы в населении Республики Мордовия по сравнению с результатами переписи 2002 г.: с 32 до 40 %, что свидетельствует, в частности, об уси- лении самосознания мордвы, с которым понятия этнической и конфессиональной культуры связаны достаточно сильно. С другой стороны, у мордвы за пределами Республики Мордовия, наоборот, наметилась тенденция к сокращению численности [1, 298]. Например, в Самарской области удельный вес мордвы снизился с 2,7 до 2,1 %, Пензенской – с 4,9 до 4,1, Оренбургской – с 2,4 до 1,9, в Ульяновской – с 3,6 до 3,2 %. Подобные «парадоксы», разумеется, требуют объяснения и анали- за, в том числе в контексте вопросов этнической и конфессиональной культуры.
Во-вторых, мордовский народ, в значительной степени интегрировавшийся в русское и – шире – европейское культурное поле, тем не менее сохранил мощный пласт самобытной традиционной культуры, пусть и заметно трансформировавшейся, вплоть до начала XXI в. [9; 13; 15; 17; 18; 20]. В связи с этим исследование степени сохранности этнической и конфессиональной культуры отдельных возрастных и социальных групп мордвы не может не привлечь пристальное внимание всякого небезразличного этнолога.
В-третьих, изучение заявленной проблемы важно в контексте межэтнического взаимодействия в поликультурных регионах, особенно перед лицом потенциальных угроз конфликтов на национальной и конфессиональной почве [29; 30].
В-четвертых, вопрос о степени вовлеченности в религиозную жизнь (для христиан – «воцерковленности») населения России уже на протяжении более тридцати лет остается дискуссионным [13], тем ценнее исследование его на примере отдельно взятого этнического сообщества.
Наконец, изучение этнической и религиозной культуры студентов имеет существенное теоретическое значение, так как в этой социально-демографической группе традиционно пересекаются наиболее острые противоречия эпохи и народа. Студенческое сообщество, находясь на острие борьбы разных факторов за мировоззрение молодежи, испытывает беспрецедентное воздействие национальной, массовой, общероссийской, традиционной и нетрадиционной культуры. Кроме того, в силу возраста и социального статуса данной категории лиц свойственны специфические формы реагирования на культурные образцы поведения [6; 23; 25; 26]. С одной стороны, для нее характерны внимание к вопросам собственной культурной идентичности, интерес «к образу жизни других людей, определение своей позиции в сфере человеческих отношений, стремление заявить о своем мнении по многим актуальным проблемам, развитие рефлексии и чувства социальной ответственности», с другой – «повышенная конфликтность, агрессивность, эгоизм, инфантилизм некоторых молодых людей, стереотипизация мышления, навязанная окружающей средой, группомыслие» [16, 5].
Целью настоящего исследования стало изучение этнической и конфессиональной культуры студентов мордовской национальности по материалам интернет-опро-са. Его объектом является этническое и религиозное самосознание, предметом – элементы этнической и религиозной культуры мордовских студентов Республики Мордовия и Ульяновской области как составные части их самосознания.
Для реализации цели исследования были сформулированы следующие задачи: выявить степень сохранности отдельных компонентов этнической культуры у мордовских студентов; проанализировать уровень их религиозности [27; 28] и «воцерковленно-сти»; исследовать степень влияния на мировоззрение студентов инокультурных систем.
Обзор литературы
Этническая и конфессиональная культура мордвы, в том числе в контексте современности, изучалась многими исследователями. Только за последние пять лет вышло немало публикаций, посвященных данной и смежной проблематике. К их числу можно отнести статью «Этноде-мографическое и этноязыковое развитие финно-угорских народов в Урало-Повол-жье», авторы которой, проанализировав большой массив статистических данных, пришли к выводу о значительном удельном весе мордвы, признающей в качестве родного языка язык своей национальности [19]. Интересные наблюдения касательно культуры этноса за пределами национальной республики были сделаны П. С. Шаховым. Исследователь заметил, что ряд календарных праздников, отмечаемых сибирской мордвой, обнаруживает очевидные архаические черты, присущие как автохтонной, так и переселенческой мордве, благодаря чему их можно рассматривать как константные элементы традиционной культуры данного этноса [24]. В целом позитивно смотрит на процесс национального возрождения мордовского народа В. К. Абрамов. Согласно его точке зрения, увеличение удельного веса мордвы в населении Республики Мордовия в 2010 г. показало, что в мордовском народе еще присутствуют достаточные жизненные силы для национального возрождения и развития [1, 298].
Подобные позитивные наблюдения нередко соседствуют с противоположными данными. Например, в Республике Башкортостан в 2010 г. доля мордвы, считающей мордовский язык родным, составила 56 %, в то время как у удмуртов той же республики соответствующий показатель достиг 89,5, у марийцев – 88,3, у чувашей – 76,5 % и т. д. [10, 37 ]. К настоящему времени произошло значительное снижение количества мордовского населения в Челябинской области [11, 40 ]. Социологические исследования, проведенные в Саратовской области в 2020 г., выявили низкую по сравнению с другими народами потребность в приобретении и умножении знаний в области своей истории и национальной культуры у русских, азербайджанцев, курдов и мордвы (60,9 % ее представителей заявили, что не заинтересованы в этих знаниях) [3, 50 ]. Получается, что представители этих народов, и мордвы в частности, больше заинтересованы в адаптации и ассимиляции, чем в сохранении этнической самобытности.
По мнению В. К. Абрамова, основная причина подобного поведения мордвы за пределами Республики Мордовия заключается в чрезвычайно дисперсном ее расселении, сложившемся еще до ХХ в. По всей видимости, для процесса возрождения национальной культуры мордвы действительно характерны сложные, во многом нелинейные процессы. Вероятно, сохранность традиций в отдельных регионах, и в первую очередь в Республике Мордовия, не означает отсутствия проблем, связанных с возрождением или сохранением этих традиций в других частях страны, тем более что в XXI в. стремление возродить национальную самобытность не всегда соотносится с «живой стариной» [8, 88]. Национальная культура народов России, в том числе финно-угорских, в ряде случаев только «обыгры- вается», «представляется», а интерес к «национальному» и «религиозному» может носить игровой, постановочный характер и приобретать новые, доселе невиданные «фольклорообразные» формы [14; 21, 105–107]. Примером подобного «обыгрывания» в контексте финно-угорской культуры является современная интерпретация традиционного удмуртского костюма, но с сохранением его смысловой, во многом традиционной нагрузки [5].
Несколько меньше публикаций посвящено этнической и конфессиональной культуре мордовских студентов. Так, в статье М. В. Антоновой представлены данные социологического опроса студентов Мордовского государственного педагогического университета, проведенного в октябре 2020 г. В частности, было выявлено, что в их среде наибольшим влиянием пользуется Русская православная церковь: 67 % респондентов считают себя православными христианами [2, 10 ]. Исследование продемонстрировало также достаточно высокую степень религиозности студентов: 77 % опрошенных назвали себя в той или иной степени верующими людьми. При этом к «воцерковленным» можно отнести лишь 12 % респондентов, которые указали, что соблюдают культовые обязанности своей конфессии и регулярно посещают церковь или мечеть – в зависимости от вероисповедания [2, 10 ]. Однако данный опрос проводился без учета этнической принадлежности, в нем приняли участие не только студенты мордовской национальности, но и русские (большинство), татары и туркмены. Подобная особенность характерна и для социологического опроса, проведенного среди студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета в марте – апреле 2017 г. О. А. Богатовой [4]. Полученные в ходе исследования результаты нельзя интерпретировать применительно к этническому фактору, поскольку они относятся к студентам разных национальностей, обучающимся в вузе.
Таким образом, несмотря на заметный вклад исследователей в изучение этнической и традиционной культуры мордвы в конце второго – начале третьего десяти- летия XXI в., до сих пор не предпринята попытка рассмотрения сохранности и востребованности традиционной культуры мордовскими студентами, что и является целью данной статьи.
Материалы и методы
В качестве методов в рамках данного исследования выбраны интернет-опрос и анализ ряда этнографических и социологических исследований по традиционной культуре и религиозности как мордовского, так и других финно-угорских народов Урало-Поволжья. Достоверность материалов, полученных с помощью интернет-опроса, обеспечивается тем, что участие в анкетировании возможно с каждого компьютера только один раз. Кроме того, интернет-опрос характеризуется высокой степенью релевантности по сравнению с другими видами опросов, что особенно важно в контексте нашего исследования. Например, в ответах респондентов, как ожидается, будут реже встречаться социально одобряемые варианты, и наоборот, над выбором ответов, не совпадающих с установками традиции, семьи, общества, в этом случае не столь очевидно будут довлеть социальные ожидания.
В основу анкеты легли вопросы, разработанные Т. А. Титовой [22] и А. К. Иди-атулловым [7]. Логика вопросов в значительной степени выстроена в рамках системного подхода, который помог создать достаточно стройную структуру этнической и конфессиональной культуры мордвы. Элементами данной структуры являются этническая и конфессиональная принадлежность, представления о святых местах и национальных героях, религиозное поведение, религиозные убеждения, степень владения национальным языком, восприятие национального языка в качестве родного, бытование празднично-обрядовой культуры и т. д.
Всего в опросе, проведенном в марте 2021 г., приняли участие 100 мордовских студентов: 63 чел. из Республики Мордовия (Мордовский государственный педа- гогический университет имени М. Е. Ев-севьева) и 37 чел.1 из Ульяновской области (Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова). Выбор данных регионов в качестве территориальных рамок обусловлен следующими причинами: 1) сходством с точки зрения национального состава: в обоих субъектах наблюдается высокий удельный вес мордвы, русских и татар; 2) непосредственным соседством регионов: не только географическим, но и историческим (восточная часть Мордовии входила в состав Симбирской губернии); 3) близостью в конфессиональном плане: более 60 % населения республики и области, согласно проекту «Арена», исповедуют православие и принадлежат к РПЦ, что в обоих случаях выше среднероссийского показателя, а также показателя некоторых других соседних регионов, например Чувашской Республики, Самарской и Саратовской областей2; 4) поведенческим своеобразием мордвы данных субъектов, которое проявляется в сокращении удельного веса этноса в Ульяновской области, и наоборот, в его увеличении в республике, о чем уже упоминалось выше.
В половом отношении выборка представлена 24 мужчинами и 76 женщинами. Численное преобладание женщин – характерная черта не только демографической структуры России и изучаемых регионов, но и полового состава студенческого сообщества, особенно педагогических вузов. По возрасту выборка распределилась следующим образом: 25 респондентов – от 15 до 18 лет; 73 респондента – от 19 до 25 лет; 2 респондента – от 26 до 30 лет.
Хотя выборку нельзя считать репрезентативной, на наш взгляд, данные, полученные в ходе пилотажного опроса, могут дать некоторое, довольно убедительное представление о современном состоянии этнической и конфессиональной культуры, особенно среди мордовской молодежи. Дело в том, что вопросы анкеты не только учитывали этническую, религиозную и конфессиональную самоидентификацию респондентов, но и были направлены на выявление степени вовлеченности опрашиваемых в мордовскую традиционную, православную и языческую культуру.
Результаты исследования и их обсуждение
В первую очередь отметим, что половина респондентов (50 чел.) имеют среди ближайших родственников представителей других народов и этнических групп. В этом смысле мордовские студенты не просто проживают и обучаются в поликультурных регионах, какими являются Ульяновская область и Республика Мордовия, – они непосредственными, родственными контактами связаны с иной этнической культурой. Среди народов, с представителями которых опрошенные состоят в близких родственных отношениях (супруг, супруга, родители), были названы русские (25 чел.), татары (5), евреи, чуваши, украинцы, белорусы, азербайджанцы, корейцы, поляки, таджики (по 1 чел.).
Отвечая на вопрос «Какой язык Вы считаете своим родным?», 39 респондентов указали на мордовский язык, 41 – назвали два и более языка (мордовский и языки других народов), 20 – язык другой национальности. В целом подобные показатели вполне ожидаемы: в поликультурном регионе важную роль играет коммуникация представителей разноязыких этносов, нередко состоящих в родственных связях, живущих на общей территории. Поэтому не только знание другого языка, но и восприятие его как родного важно хотя бы с практической точки зрения. Кроме того, признание в качестве родного языка не мордовского, а, по всей видимости, русского, – это во многом характерная для мордвы черта самосознания, что подтверждают данные других исследований. Так, согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., более одной трети представителей российской мордвы признали, что для них родным стал русский язык [19, 155]. Еще более очевидно обозначенная тенденция проявилась в ответах на вопрос о степени владения национальным языком. 7 респондентов выбрали вариант «говорю, немного читаю, пишу», 27 – «пони- маю, могу общаться на нем, но не читаю и не пишу», 29 – «практически не владею», 34 – «свободно говорю, читаю, пишу». Приведенные данные свидетельствуют о том, что почти треть респондентов практически не владеет мордовским языком.
Следующая пара вопросов была направлена на выяснение символической компоненты этнического самосознания мордовских студентов. На вопрос «Почитаются ли Вашим народом какие-либо места, объекты, памятники как священные?» 27 респондентов сообщили, что почитаются, 55 – не почитаются, остальные затруднились с ответом. В ответах на уточняющий вопрос в качестве таких мест были названы православные объекты (6 чел.), церкви (4), памятники, посвященные Великой Отечественной войне (2), родники (2), Вечный огонь (1), мемориалы, связанные с войной (1 чел.). Таким образом, отчетливо проявились две формы самосознания мордвы: общегражданская, тесно связанная с исторической памятью о Великой Отечественной войне, и религиозная, которая в силу понятных причин носит православный характер.
Значительный перевес объектов православного культа в ответах – это результат, с одной стороны, усиления позиций Русской православной церкви в изучаемых регионах, что неоднократно подтверждали предыдущие исследования [2; 4], а с другой – отсутствия какого-либо однозначного, консолидирующего архитектурного (и не только) символа, созданного в Новейшее время. Очевидны культурная значимость и подоплека советской архитектуры: она стала во многом формой, в которую облекались достижения и триумфы советского периода, в числе которых важнейшее место безусловно занимает победа в Великой Отечественной войне. Современность же ознаменовалась восстановлением православия и иных духовных традиционных основ российского общества, развернувшимся на фоне рухнувших (или заметно пошатнувшихся) идеалов советского общества. На данном этапе у церквей, монастырей и других объектов православия по большому счету не оказалось заметных конкурентов в постсоветское и последующее
(Гц! КУЛЬТУРОЛОГИЯ время. Именно они во многом заполнили вакуум культурных символов.
Интересны ответы на вопрос «Кого Вы считаете национальным героем своего народа?». В частности, 12 студентов назвали Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, 8 – эрзянского князя Пургаза, 6 – русского флотоводца и святого Русской православной церкви Федора Федоровича Ушакова, 5 – скульптора Степана Дмитриевича Эрьзю, 4 – участницу Крестьянской войны 1670–1671 гг. под предводительством Степана Разина Алену Арзамасскую, 3 – Василия Ивановича Чапаева, 3 – богиню земли Мастораву. Все «персонажи», заявленные в ответах, имеют мордовское (эрзянское или мокшанское) происхождение. В этом смысле респонденты продемонстрировали некоторую осведомленность о наиболее выдающихся представителях своего народа, что является признаком их положительной установки по отношению к мордовской истории и культуре.
Анализ ответов показывает, что в этническом самосознании студентов очевидно присутствует стремление если не к синтезу, то к сочетанию самых разных исторических периодов развития мордовского народа: древнемордовского, в том числе языческого (упоминание Масторавы), дореволюционного, в ряде случаев православного (упоминание Федора Федоровича Ушакова), советского (по большей части героического). Подобное стремление, на наш взгляд, должно быть интерпретировано как пристальное внимание мордовской молодежи к вопросам собственной культурной идентичности.
Следующая группа вопросов была направлена на выявление актуальности празднично-обрядового компонента национального самосознания мордовских студентов. На вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье национальные обряды, обычаи, традиции?» было получено 34 положительных и 47 отрицательных ответов. К таким традициям были отнесены Пасха (9 чел.), Масленица (6), Рождество (4), церковные традиции и обычаи (3), православные (2), Троица (2), Крещение (2 чел.). Отвечая на вопрос «Какие праздники Вы считаете народными?», 30 респондентов назвали Масленицу, 10 – Пасху, 8 – День Победы, 8 – Новый год, 7 – Рождество, 6 – “Акша келу” («Белая береза»), 6 – Троицу, 4 – “Масторавань морот” («Песни Матери-Земли»), 3 – Яблочный Спас. В единичных случаях упоминались “Чипайне” («Солнышко»), “Тундонь ильтямо” («Проводы весны»), “Шумбрат” («Здравствуйте»). Анализ данных ответов позволяет сделать вывод о смещении этнического самосознания мордовских студентов в первую очередь в религиозную сферу: наибольшее количество ответов респондентов связано с идентификацией религиозных праздников как народных обычаев.
Отметим еще одну характерную особенность полученных результатов – син-кретизацию в массовом сознании респондентов праздников разного генезиса: международных (Новый год), русских национальных, пусть и получивших международное распространение (Масленица), христианских (Пасха, Троица), государственных (День Победы), мордовских национальных (“Акша келу”). Подобное смешение – не всегда признак одной лишь плюрализации сознания мордовской молодежи, в котором гармонично сочетаются и светское, и сакральное, и традиционное, и инновационное. Иногда за этим скрываются более сложные системные взаимосвязи. Например, мордовский обряд проводов весны (“Тундонь ильтямо”), упомянутый респондентами, следовал через неделю после Троицы, также зафиксированной в ответах [12, 81 ]. Иными словами, мордовская молодежь, объединяя якобы генетически разные праздники, на самом деле продолжает народную традицию, которой уже не одно столетие.
Большой блок вопросов был посвящен конфессиональной культуре респондентов. Среди ответов на вопрос «К какой категории населения Вы себя относите?» 10 студентов выбрали вариант «безразлично, не интересуюсь религией», 45 – «считаю себя верующим», 1 – «не считаю себя верующим, но хотел бы быть таковым», 1 – «отношусь к религии отрицательно», 25 – «отношусь к религии с уважением, хотя верующим себя не считаю». То, что меньше половины из них назвали себя верую- щими, также было вполне предсказуемо, свойственно российской молодежи, за исключением, пожалуй, регионов Северного Кавказа, и неоднократно фиксировалось исследователями не только на мордовском материале [2; 4; 7]. По конфессиональному признаку студенты отнесли себя к христианам (85 ответов), атеистам (5), никакой религии (5), язычеству (2), к буддизму (1 ответ). Среди христиан 81 чел. отнес себя к православию, 1 – к пятидесятничеству, 3 – не конкретизировали свою христианскую конфессию, что подтверждает выявленную в других исследованиях ведущую роль РПЦ в изучаемых регионах хотя бы на идентификационном уровне [2; 4].
На уровне конкретных мотивов, практики, представлений, т. е. поведенческой и знаниевой сферы, картина уже не кажется столь однозначной. В частности, на вопрос «Если Вы считаете себя христианином, то почему?» 29 респондентов ответили «потому что мой народ традиционно исповедует христианство», 37 – «потому что я родился в верующей христианской семье», лишь 11 – «потому что я соблюдаю все требования христианина». Верят в Бога 60 студентов, затруднились ответить – 21, не верят – 19. По мнению 50 опрошенных, Иисус – это Бог, 18 – считают его обычной исторической личностью, 25 – пророком, 1 – выдуманным персонажем, 1 – богочеловеком, 1 – «третьей частью триединства». Верят в один из важнейших христианских догматов о существовании ада и рая меньше половины участников опроса (49), не верят – 29, затруднились ответить – 22, при этом гораздо большее их число верит в существование души человека – 76. Были в церкви пару раз в жизни 28 респондентов, иногда (2–3 раза за последние три года) – 38, примерно раз в месяц – 14, только на Рождество и Пасху – 2, совсем не посещают церковь – 26. Соблюдают Великий пост регулярно, уже много лет 7 студентов, иногда стараются соблюдать – 25, не соблюдают – 68.
Следовательно, реально «воцерковлен-ных» людей в молодежной студенческой среде мордвы не так много. По большей части православие для них является фактором этнической или даже личностной идентификации и никак не связано с непосредственным религиозным опытом и тем более образом жизни.
Наконец, нами были проанализированы инокультурные влияния на студентов, связанные в первую очередь с оккультными представлениями. Так, верят в магию 42 респондента, что сопоставимо с числом тех, кто верит в ад и рай. Полагают, что маги, экстрасенсы, колдуны – шарлатаны, 38 студентов (светская оценка); относятся к ним резко отрицательно, так как магия – большой грех, – 12 (религиозная оценка); считают, что благодаря им сохраняются народные традиции, обычаи, обряды, – 20 (неоязыческая оценка, возможно связанная с народной мордовской религией); уважают колдунов, магов и экстрасенсов, считая, что многие из них обладают сверхъестественными способностями, – 16 (оценка людей, увлеченных оккультной культурой). Гадают на картах 12 опрошенных, практикуют святочные гадания – 8, гадают по снам – 3, по руке – 2, по книге – 1. Получается, что оккультное влияние на мировоззрение мордовских студентов многогранно, по большей части привнесено извне и никак не связано с мордовской национальной культурой, хотя нельзя исключать, что в ряде случаев традиция и оккультизм взаимно подпитывают друг друга.
Заключение
Итак, анализ материалов интернет-опроса позволяет заключить, что в целом для мордовских студентов Республики Мордовия и Ульяновской области характерна положительная установка по отношению к мордовской культуре. Особенно заметно интерес опрошенных к традиции проявляется при ответах на вопросы, затрагивающие ту часть этнического самосознания, которая имеет в большей степени символическое, нежели практическое или повседневное, значение. В частности, все «персонажи», которые были названы в качестве национальных героев, имеют мордовское происхождение, независимо от эпохи, с которой они связаны. В то же время обрядово-праздничная культура и культура священных мест во многом утратили исключительно этническое со- держание. Здесь, как показывают ответы респондентов, наравне с традиционными элементами культуры (праздники “Акша келу”, “Масторавань-морот”, “Чипайне”, “Тундонь ильтямо”, “Шумбрат”) отчетливо проявились другие формы самосознания мордвы: светская, общегражданская, тесно связанная с исторической памятью о Великой Отечественной войне, религиозная, которая в силу очевидных причин носит православный характер, международная (упоминание Масленицы в качестве национального праздника).
Не менее разнообразна религиозная культура мордовских студентов, значительная часть которых хотя и относит себя к православным христианам, в разной степени интегрирована в культуру православия. Сравнительно немногих можно назвать «воцерковленными». При этом некоторые респонденты не лишены оккультного влияния, считая, что многие из экстрасенсов и колдунов обладают сверхъестественными способностями, гадая на картах и занимаясь хиромантией.
Подобная плюрализация этнической и религиозной культуры мордовских студен- тов, как нам представляется, происходит в силу трех основных причин. Во-первых, поликультурным регионам, в которых они проживают и обучаются, традиционно свойственны инокультурные заимствования, тесные межэтнические контакты, в том числе родственные, большой удельный вес людей, использующих в повседневной жизни в качестве языка общения не национальный язык. Во-вторых, сама по себе культура мордвы сформировалась не за одно столетие и ей исторически были присущи переосмысления традиционного, народного уклада сначала в русле православной религии, а затем русской и советской культуры. В этом смысле мордовская молодежь, объединяя якобы генетически разнородные элементы этнической и конфессиональной культуры, на самом деле продолжает интерпретацию накопленного предками многовекового опыта. И в-третьих, интеграция молодежи в православную культуру не всегда происходит сознательно, связана не столько с религиозным опытом, сколько с иными факторами, которые к религии имеют опосредованное отношение, в особенности с этнической идентификацией.
Поступила 26.11.2022; одобрена 18.12.2022; принята 26.12.2022.
Список литературы Этническая и конфессиональная культура мордовских студентов (по материалам интернет-опроса)
- Абрамов В. К. Мордовский народ во второй половине XX - начале XXI века (1953-2010): моногр. Пенза: Социосфера, 2021. 308 с.
- Антонова М. В. Нравственные установки и ориентиры студенчества Мордовского государственного педагогического университета // Гуманитарные науки и образование. 2021. Т. 12, № 1. С. 7-12. DOI: 10.51609/2079-3499_2021_12_01_07.
- Бегинина И. А., Ивченков С. Г., Шахматова Н. В. Межэтнические взаимодействия населения в Саратовском приграничье // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2021. № 3. С. 48-57. DOI: 10.52452/18115942_2021_3_48.
- Богатова О. А. Религиозность студенческой молодежи: социологическое исследование в регионе (Республика Мордовия) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2017. № 3. С. 186-201. URL: https: //elibrary. ru/item.asp?id= 30382621 (дата обращения: 22.01.2023).
- Бортникова Н. В., Рубцова Е. В., Фадеева В. В. Этнокостюм в дискурсе художественной практики (из опыта работы Удмуртского государственного университета) // Костюмология. 2021. № 4, Т. 6. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=48043284 (дата обращения: 22.01.2023).
- Емелькина И. В. Развитие этнического самосознания мордвы в условиях глобализации // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2020. Т. 20, № 3. С. 325-333. DOI: 10.15507/20789823.51.020.202003.325-333.
- Идиатуллов А. К. Религиозность студентов Уфы (на примере башкир и татар) // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 399. С. 63-66. DOI: 10.17223/15617793/399/11.
- Идиатуллов А. К. Этнокультурная и религиозная ситуация в Цильнинском районе Ульяновской области // Вестник Чувашского университета. 2018. № 2. С. 85-92. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=35122991 (дата обращения: 22.01.2023).
- Клашкина Л. Е. Этнические традиции праздничной и семейной обрядности в контексте исторической памяти (на примере самарской мордвы) // Национальное культурное наследие России: региональный аспект: материалы VII Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Самара. 2019. Ч. 1. С. 343-351.
- Кондрашкина Е. А. Развитие билингвизма и полилингвизма в Республике Башкортостан // Научный диалог. 2019. № 4. С. 29-42. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-4-29-42.
- Корнишина Г. А. Мордва в структуре населения Челябинской области по данным переписей XX - начала XXI веков // Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья. 2022. Т. 12, № 2. С. 37-43. DOI: 10.15350/26191490.2022.2.24.
- Корнишина Г. А. Социально-обрядовая роль и формы организации половозрастных контактов мордовского населения Самарского края в первой половине XX в. // Финно-угорский мир. 2017. № 1. С. 78-85. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=50088215 (дата обращения: 22.01.2023).
- Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Ведущие тенденции в сфере этноконфессиональных процессов у финно-угорских народов Поволжья и Приуралья (на примере мордвы) // Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации: материалы V Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Л. М. Дробижевой. Казань, 2022. С. 132-135.
- Нехаева Н. Е. Развитие этнического туризма в Республике Мордовия как основа сохранения культуры мордвы // Современные проблемы территориального развития: электрон. журн. 2018. № 2. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=35147459 (дата обращения: 22.01.2023).
- Никонова Л. И. Организация жизнедеятельности и формирование мордовского населения на Крайнем Севере (по результатам этнографической экспедиции) // Вестник антропологии. 2020. № 2. С. 272-285. DOI: 10.33876/23110546/2020-50-2/272-285.
- Писаревская М. А. Проблема формирования толерантности у студенческой молодежи // Науковедение: интернет-журн. 2015. Т. 7, № 4. С. 1-10. DOI: 10.15862/96PVN415.
- Попова Т. В. Похоронно-поминальные обряды мордвы: этнопсихологический аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 4. Ч. 2. С. 153-156. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=16855766 (дата обращения: 12.03.2023).
- Рузавина Н. В. Обряды мордвы села Алтышево Алатырского района Чувашской Республики: традиции и новации // Мордва в Чувашии: история и современность: материалы Межрегион. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2022. С. 314-318.
- Сафин Ф. Г., Мухтасарова Э. А., Халиули-на А. И. Этнодемографическое и этноязыковое развитие финно-угорских народов в Урало-Поволжье // Финно-угорский мир. 2019. № 2. С. 152-167. DOI: 10.15507/20762577.011.2019.02.152-167.
- Сидоркина И. С. Способы сохранения и популяризации этнической культуры мордвы // XLVI Огарёвские чтения: материалы науч. конф.: в 3 ч. Ч. 3. Гуманитарные науки. Саранск, 2018. С. 78-81.
- Таймасов Л. А., Идиатуллов А. К. Этнокультурная и религиозная ситуация в Николаевском районе Ульяновской области // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 1. С. 103-107. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34960387 (дата обращения: 22.01.2023).
- Титова Т. А. Этнические меньшинства в Татарстане: статус, идентичность, культура. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. 253 с.
- Шабыков В. И., Кудрявцева Р. А., Орлова О. В. Национальность и национальная гордость в ценностной структуре этнической идентичности в Республике Марий Эл (социологическое исследование) // Социодинамика: электрон. журн. 2018. № 8. С. 33-42. DOI: 10.25136/24097144.2018.8.27094.
- Шахов П. С. Мордовский календарно-об-рядовый фольклорно-этнографический комплекс сибирского бытования (осенне-зимний период) // Сибирский филологический журнал. 2019. № 1. С. 26-39. DOI: 10.17223/18137083/66/2.
- Школкина И. Н. Влияние глобализации на самосознание мордвы // Финно-угорский мир. 2017. № 4. С. 107-124. URL: https://csfu.mrsu. ru/arh/2017/4/107-124.pdf (дата обращения: 22.01.2023).
- Collins-Mayo S. Youth and religion. An international perspective // Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. 2012. Vol. 11, no. 1. P. 80-94. URL: https://www.theo-web.de/ zeitschrift/ausgabe-2012-01/07.pdf (дата обращения: 22.01.2023).
- Glock C. Y., Stark R. American piety: the nature of religious commitment. Berkeley: University of California Press, 1968. 230 p.
- Gunn T. J. The Complexity of Religion and the Definition of "Religion" in International Law. Harvard Human Rights Journal. 2003. Vol. 16. P. 189-215. URL: https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/16HHRJ189-Gunn.pdf
- Gurr T. R. Minorities at risk. A global risk of ethnopolitical conflicts. Washington, D. C.: United States Institute of Peace Press, 1993. 427 p.
- Horowitz D. L. The deadly ethnic riot. Berkerley: University of California Press, 2001. 605 p.