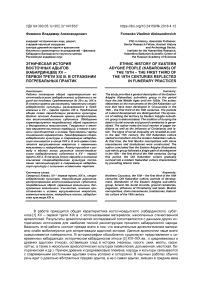Этническая история восточных адыгов (кабардинцев) XV - первой трети XIX в. в отражении погребальных практик
Автор: Фоменко Владимир Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена общей характеристике восточноадыгского (кабардинского) субэтноса в период от позднего Средневековья до 20-х гг. XIX в. В статье кратко рассмотрены памятники старокабардинской культуры, развивавшейся в Предкавказье в XV - первой трети XIX в. Предложена общая схема периодизации развития культуры. Кратко описана динамика границ распространения восточноадыгского субэтноса. Обобщенно характеризуется погребальный обряд курганных и бескурганных могильников. Говорится о местном варианте языческих традиций, а также о влиянии христианства и ислама. Прослежены черты социального неравенства. Трансформация старокабардинской культуры в современную кабардинскую начинается в конце XVII в. В это время появляются мусульманские некрополи с каменными мавзолеями и надгробиями. Автор приходит к выводу о единой линии развития восточноадыгского (кабардинского) субэтноса в XV - первой трети XIX в. В течение этого периода в основном языческая старокабардинская культура постепенно эволюционирует в современную кабардинскую культуру с сильными исламскими чертами.
Северный кавказ, xv - первая треть xix в., старокабардинская культура, периодизация развития, распространение восточноадыгского субэтноса, погребальный обряд, курганные могильники, бескурганные могильники, язычество, влияние христианства и ислама, мусульманские некрополи, каменные мавзолеи, надгробные плиты, кабардинская культура xix в.
Короткий адрес: https://sciup.org/14941494
IDR: 14941494 | УДК: 94:393.05.1(=352.3)“14/1833” | DOI: 10.24158/fik.2018.4.12
Текст научной статьи Этническая история восточных адыгов (кабардинцев) XV - первой трети XIX в. в отражении погребальных практик
В работе приводится общая характеристика восточноадыгского (кабардинского) субэтноса [1] XV – первой трети XIX в. с использованием материалов, накопленных отечественной археологией. Результаты археологических исследований сопоставляются с данными других исторических источников для наиболее полной реконструкции прошлого кабардинского народа. Важность этой работы состоит прежде всего в том, что значительные археологические материалы слабо мобилизуются для конкретизации адыгской истории. Данные археологии чаще всего осмысливаются поверхностно. В историографии обособленно существуют представления о современных кабардинцах, историческом кабардинском этносе [2] XVI–XIX вв., о средневековых и древних адыгских этносах, оставивших след в истории (черкесы, касоги, зихи, меоты, каски, хатты), а также о нескольких археологических культурах (майкопская, дольменная, меотская, белореченская и др.). Причем древние и средневековые племена, народы и культуры связываются с современными восточными адыгами очень условно и осторожно. В научных работах обычно речь идет о довольно абстрактных предках адыгов, а не о самих адыгах, живших в средние века и в древности. Задача данной работы – показать и дополнительно аргументировать непосредственную связь и преемственность археологических культур и отдельных типов памятников XV– XVIII вв. с историческим кабардинским этносом XIX в.
Хронологические рамки исследования определены двумя историческими вехами. К концу XV в. значительная часть адыгского массива из Закубанья переходит в Центральное Предкавказье. Перемещение это, видимо, связано с османским завоеванием Восточного побережья Черного моря. В то время в Закубанье угасает белореченская археологическая культура. Практически одновременно в Верхнем Прикубанье, Пятигорье и Притеречье появляются курганы старокабардинской культуры [3], формирование которой началось еще в Закубанье в XIII–XV вв. [4]. Верхняя хронологическая граница нашего исследования определена второй половиной 20-х гг. XIХ в. – временем формирования линии казачьих станиц на реках Кубани, Куме, Подкумке и Малке [5]. Этот фактический рубеж Российской империи окончательно отделил западных адыгов от восточных (кабардинцев). Тогда же образовались территориальные границы последнего из названных субэтносов, близкие к современным.
В развитии кабардинского субэтноса XV – первой трети XIX в. можно условно обозначить три основных периода.
-
I. Началом периода можно считать массовое переселение адыгов в центральные районы Северного Кавказа и образование Кабарды. Этот процесс связывается большинством современных исследователей с интенсивным распространением курганов на восток, но датируется по-разному: начало XIV в. [6], рубеж XIV–XV вв. [7], конец XV в. [8]. Однако есть основания предполагать, что в предгорных и горных районах Верхней Кубани, Пятигорья и Притеречья с древних времен до XIII–ХV вв. проживало значительное по численности автохтонное адыгоязычное население, в том числе и адыги, входившие в состав Алании (аланского союза племен). Старокабардинская культура с преобладающим курганным обрядом погребения стала лишь одним из последних этапов формирования кабардинского субэтноса. В состав этой культуры вошли верхнекубанская и центральнокавказская основа и поздний импульс закубанского населения, возводившего курганы над могилами [9]. Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить вполне сложившийся (в целом однообразный) вид старокабардинской культуры в XV–ХVII вв., т. е. на протяжении всего первого периода.
-
II. Второй этап развития кабардинского субэтноса – это период перехода старокабардинской культуры в собственно кабардинскую культуру. Он начался в конце XVII в. и продолжался в ХVIII в. В это время появляются мусульманские некрополи с каменными мавзолеями и надгробиями. Курганный, т. е. языческий в своей основе, погребальный обряд постепенно переходит в исламский, свойственный для собственно кабардинской культуры, в том числе и современной. Однако сооружение небольших каменно-земляных курганных насыпей над могилами продолжалось и в ХIХ в. [10].
-
III. Третий этап этнокультурного развития связан с драматическими событиями Кавказской войны. Влияние военных действий было значительным уже в последней четверти ХVIII в., но особенно усилилось и отразилось на миграционных процессах и демографии кабардинцев в первой трети ХIХ в. [11].
Важным показателем состояния восточноадыгского субэтноса является динамика его территориальных границ. Старокабардинская культура в XV–ХVII вв. занимала значительную часть Предкавказья от Верхнего Прикубанья до запада современной Чечни [12].
Турецкий путешественник Э. Челеби писал, что для защиты от вторжений калмыков в Ка-барду князь Мисост-бей построил в XVII в. крепость Шадкерман (Хажикала) у слияния Кубани и Малого Зеленчука [13]. В начале 60-х гг. XVIII в. кабардинский князь Темрюк-Хаджи Атажукин усилил крепость Хажикала и построил боевую башню Адиюх [14]. Эта башня входила в оборонительно-сигнальную систему каменных башен в верховьях Кубани и на ее притоках.
Наиболее восточным районом, где зафиксированы старокабардинские курганы, являются долины рек Сунжи и Фортанги [15]. В плотно заселенной долине Сунжи известно около 25 курганных некрополей XV–XVII вв., сохранились многие адыгские топонимы. Важнейший торговообменный путь, проходивший в восточном Придарьялье, ингуши называли Чергси некъ – Черкесская (т. е. адыгская. – В. Ф. ) дорога [16]. В центральных и восточных районах Чечни, а также на территории современного Дагестана старокабардинские курганы не выявлены. Однако по данным письменных источников известно, что в конце XVI – первой трети XVIII в. кабардинцы жили в низовьях Терека [17]. К концу XVII в. так называемая Идарова Кабарда (Идарей), занимавшая часть среднего и нижнее Притеречье, пришла в упадок [18] и восточной периферией восточноадыгского субэтноса становится Малая Кабарда (нынешний Терский район Кабардино-Балкарии, а также часть территории современных Северной Осетии и Ингушетии).
Северной границей своих владений кабардинские князья считали реку Томузловку. В описании проекта строительства Азово-Моздокской линии (1777 г.) говорится: «Река Томузлов имеет хорошую и здоровую воду, а на вершинах оной имеются темные и множеством зверей наполненные леса. Черкесы Большой Кабарды содержат по сей реке свои табуны» [19].
Построенные с XVI по XVIII в. каменные башни и оборонительные башенные поселки в горных местностях Затеречья можно считать южной границей (периферией жизненного пространства) кабардинского этноса XVI–XVIII вв. и ареала старокабардинской культуры. Усиленное возведение фортификационных сооружений зависимыми от Кабарды горскими народами совпадает по времени с утверждением господства кабардинских князей в регионе [20].
Могильники старокабардинской культуры чаще всего представляют собой скопления (по-кабардински дословно Iуащхьэ бын – ‘семья курганов’) 20–30 невысоких насыпей. Некоторые памятники состоят из нескольких десятков и даже сотен курганов. Эти крупные могильники часто называют кхъузанэкхъэ (дословно – ‘могила-сито’).
Старокабардинские курганные кладбища обычно располагались на пологих возвышенностях и, вероятно, отмечали собой земли, заселенные адыгами. Нередко Iуащхьэ бын находятся (или находились) в важных военно-стратегических проходах и вдоль торгово-обменных путей (например, у входа в Баксанское ущелье близ селения Заюково, а также у Эльхотовских ворот [21] – у старинной дороги в Закавказье).
Погребальный обряд старокабардинской культуры конца XV – XVII в. внешне однообразен и стабилен. Преобладают подкурганные одиночные захоронения в грунтовых ямах. Очень часто фиксируются остатки деревянных колод или гробов из досок. Трупоположения вытянутые головой на запад. Инвентарь, как правило, не богат. В мужских могилах обычны находки предметов вооружения (чаще сабель).
Исследователями выделены некоторые локальные различия в памятниках старокабардинской культуры [22], наличие которых вполне объяснимо большой территорией распространения и длительностью исторического развития. В памятниках Пятигорья и Притеречья изредка встречаются небольшие вкрапления элементов белореченских древностей.
Рядом с курганными могильниками исследованы и бескурганные слабо датируемые погребения в грунтовых ямах и в каменных ящиках [23]. Высказано предположение о синхронности этих памятников.
В целом можно сказать, что старокабардинские кладбища Верхнего Прикубанья, Пятигорья и Притеречья ( Iуащхьэ бын и кхъузанэкхъэ ) – это памятники языческой культуры. Однако в них вполне отчетливо видно влияние христианских и исламских традиций. Этот сплав конфессиональных черт в погребальном обряде и инвентаре (вытянутое положение умерших головой на запад, бытование амулетниц и т. д.) прослеживается еще в белореченских и старокабардинских памятниках Закубанья XIV–ХV вв.
Археологические данные подтверждаются и другими историческими источниками. Так, некоторые особенности религиозного синкретизма кабардинцев известны из формулы отречения от «черкасской веры», составленной в середине XVI в. для новой жены Ивана IV – кабардинской княжны Марии Темрюковны (Гошаней), а также части ее родственников и придворных. Религиозные практики, упоминаемые в формуле отречения, позволяют говорить о «черкасской вере» как о народной вере синкретического типа. В этой религии сохранялся «основной древний субстрат языческих обрядов и идей» при наличии адаптированных элементов христианства и ислама [24].
В памятниках старокабардинской культуры прослеживаются черты социального неравенства. Однако значение важнейшего социально-рангового признака (наличие и размеры курганной насыпи) в XV–ХVIII вв. постепенно нивелируется. Крупные и высокие насыпи над могилами военной элиты в старокабардинской курганной традиции пока неизвестны. В группах Iуащхьэ бын курганы обычно находятся вокруг центральной (или главной) насыпи, высотой до 1,5 м. Высота остальных (рядовых) курганов часто составляет от 0,2 до 0,7 м. В подавляющем большинстве исследованных насыпей небогатый погребальный инвентарь пока не позволяет сделать четких и однозначных выводов о социально-ранговой структуре старокабардинского общества. Топология курганных групп ( Iуащхьэ бын и кхъузанэкхъэ ) дает возможность предполагать, что взаимное расположение погребений отражает фамильно-родовую структуру [25] и учитывает внутренние социально-имущественные различия.
Исследованные и введенные на сегодняшний день в широкий научный оборот курганные кладбища старокабардинской культуры, на наш взгляд, не полностью отражают социально-ранговую структуру восточноадыгского феодального общества XV–ХVIII вв. Из других исторических источников известно, что эта структура была довольно сложной [26]. Еще Л.И. Лавров подчеркивал, что ускоренное развитие феодальных отношений у кабардинцев связано с переселением их на просторы Центрального Предкавказья и открывшейся для кабардинской верхушки возможностью расширить скотоводство и другие отрасли производящего хозяйства [27].
Трансформация старокабардинской культуры в собственно кабардинскую в погребальных практиках проявляется как переход от курганного, т. е. языческого, похоронного обряда к исламскому, т. е. современному. Влияние исламских традиций отчетливо прослеживается еще в языческом погребальном обряде адыгов в ХIV–ХV вв. В некоторых старокабардинских захоронениях ХV–ХVII вв. оно также фиксируется [28]. Данные археологии подтверждают сведения письменных источников о том, что переход к исламу в Кабарде был процессом достаточно длительным и бесповоротно проявился в конце XVII в. В это время в Кабарде начали устраиваться мусульманские кладбища с каменными мавзолеями, «загородками» ( чэщанэ ) и надгробиями-стелами сыныжь (‘старый памятник’) [29]. Арабские надписи, собранные и обобщенные Л.И. Лавровым, позволили датировать строительство мавзолеев в кабардинских землях концом XVII - XVIII в. [30]. Курганный обряд погребения отмирает у восточных адыгов на протяжении ХVIII в. Это столетие можно считать финальным для эволюции старокабардинской культуры. Однако есть данные о том, что традиция возводить небольшие каменно-земляные насыпи над погребениями сохранялась здесь до конца XIX в. [31]. Интересно, что в 1895 г. во время экспедиции графа Евгения Зичи на кладбище селения Дударуково [32] ( Kabard temeto Dubaruk faluban ) рядом с курганами зафиксированы мусульманские каменные надгробия - сыныжь [33].
Мусульманские памятники в Кабарде также имеют различия в хронологии. Наиболее престижная разновидность намогильных памятников - каменные мавзолеи ( чэщанэ [34]). Они строились, судя по сохранившимся арабским надписям, в конце XVII и XVIII в. для погребения князей и дворян. Каменные «загородки», не имеющие в отличие от мавзолеев перекрытия, являются как бы их упрощенным вариантом. Чэщанэ -загородки, также сооружавшиеся при захоронении кабардинской феодальной элиты, видимо, синхронны мавзолеям, а некоторые, возможно, датируются и более поздним временем (XIX в.). Следующая разновидность намогильных памятников ( сыныжь ) также обозначала могилы князей и дворян, но устанавливалась и в начале XХ столетия, а также используется как наиболее распространенный тип надгробия и в наши дни. Прекращение в XIX в. строительства каменных мавзолеев и угасание сооружения загородок- чэщанэ , скорее всего, связаны с утратой крымско-кабардинских связей и отзывом мастеров-каменщиков на родину в Крым. Ликвидация Крымского ханства [35] прекратила или сильно ослабила влияние крымских исламских центров на население Кабарды. Установка на могилах сыныжь - старинных плит-надгробий, вырезанных из туфа или других пород камня, продолжилась, вероятно, благодаря установившимся и окрепшим связям восточных адыгов с религиозными центрами Дагестана и Поволжья.
Следует также сказать, что под московским, крымско-армянским, а затем российским влиянием в Кабарде, особенно на ее периферии и за пределами, сформировались численно небольшие, обособленные этноконфессиональные группы христианского восточноадыгского населения (Черкасские [36], Гаур-Тамбиевы, моздокские кабардинцы и др.), но определяющего влияния на развитие кабардинского субэтноса они не оказывали.
Таким образом, старокабардинская культура начала формироваться в Закубанье и там приобрела многие характерные черты, в том числе под влиянием белореченской культуры.
Хорошо заметные могильники 1уащхьэ бын и кхьузанэкхьэ остаются основным этнокультурным признаком присутствия восточноадыгского населения на территории значительной части Предкавказья. Однако границы владений кабардинских князей (Большая и Малая Кабарда) были несколько шире, чем ареал распространения старокабардинской культуры. Это четко прослеживается на границах кабардинских феодальных владений (река Томузловка, устье Терека, долина Верхней Кубани, горные долины Притеречья).
Следует сказать о неравномерной изученности памятников восточных адыгов XV - первой трети XIX в. Ученые исследовали в основном заметные и многочисленные курганные группы. Гораздо слабее изучены грунтовые (бескурганные) могильники XV-XVII вв., структура (топология) мусульманских кладбищ конца XVII - первой трети XIX в., остатки старинных поселений и святилищ.
Имеющиеся к настоящему времени материалы позволяют говорить о единой линии развития восточноадыгского (кабардинского) субэтноса в XV - первой трети XIX в. В течение конца XVII - XVIII в. в основном языческая старокабардинская культура постепенно эволюционирует в современную кабардинскую культуру с сильными исламскими характеристиками.
Важно также отметить, что процессы трансформации кабардинского субэтноса не завершились в первой трети XIX в. Они продолжались в XIX в. (переселение части адыгского населения на территорию Османской империи, реформа укрупнения аулов и отмена крепостного права в Кабарде). В ХХ в. события Гражданской войны и политика советской власти также отразились на состоянии субэтноса кабардинцев. Этнокультурные изменения продолжаются и в наше время, но рамки статьи не позволяют остановиться подробно на процессах этнической истории середины XIX – начала ХХI в.
Ссылки и примечания:
-
1. В наши дни распространено мнение, что адыги (абадзехи, бесленеевцы, бжедуги, кабардинцы, темиргоевцы, черкесы, шапсуги) составляют единый этнос, а кабардинцы, соответственно, являются одним из субэтносов адыгов. См.: Керефов Б.М. Кабардинцы // Энциклопедия культур народов Юга России. Ростов н/Д., 2005. Т. 1. Народы Юга России. С. 110–113.
-
2. Далее, говоря о кабардинцах, подразумеваем не только собственно кабардинцев и их этнических предков, но и близкородственных верхнекубанских черкесов, говорящих на одном – кабардино-черкесском – языке. См.: Калмыков И.Х. Черкесы // Энциклопедия культур народов Юга России. Т. 1. С. 229–232.
-
3. Выделение старокабардинской культуры было кратко обосновано нами в книге, изданной в 2002 г. См.: Фоменко В.А. Пятигорье в XV – середине XVIII в. Пятигорск, 2002. С. 6. В последующих работах автора, в том числе в упоминаемых ниже статье 2007 г. и монографии 2016 г., приведена более полная характеристика этой археологической культуры.
-
4. Фоменко В.А. Древности долины реки Хасаут и другие археологические памятники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности). Нальчик, 2016. С. 43–44.
-
5. Край наш Ставрополье. Очерки истории. Ставрополь, 1999. С. 83–84.
-
6. Ловпаче Н.Г. Этническая история Западной Черкесии. Майкоп, 1997. С. 130–146.
-
7. Ртвеладзе Э.В. К вопросу о времени массового переселения кабардинцев в центральные районы Северного Кавказа // III Крупновские чтения. Грозный, 1973. С. 20–21.
-
8. Аталиков В.М. Наша старина. Нальчик, 1996. С. 87–141.
-
9. Фоменко В.А. Древности долины … С. 44.
-
10. Афаунов А. О местожительстве и потомках Ш.Б. Ногмова // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Нальчик, 1994.
№ 1. С. 28.
Список литературы Этническая история восточных адыгов (кабардинцев) XV - первой трети XIX в. в отражении погребальных практик
- Керефов Б.М. Кабардинцы//Энциклопедия культур народов Юга России. Ростов н/Д., 2005. Т. 1. Народы Юга России. С. 110-113
- Калмыков И.Х. Черкесы//Энциклопедия культур народов Юга России. Ростов н/Д., 2005. Т. 1. Народы Юга России. С. 229-232.
- Фоменко В.А. Пятигорье в XV -середине XVIII в. Пятигорск, 2002. С. 6.
- Фоменко В.А. Древности долины реки Хасаут и другие археологические памятники Северного Кавказа (вопросы культурно-этнической принадлежности). Нальчик, 2016. С. 43-44.
- Край наш Ставрополье. Очерки истории. Ставрополь, 1999. С. 83-84.
- Ловпаче Н.Г. Этническая история Западной Черкесии. Майкоп, 1997. С. 130-146.
- Ртвеладзе Э.В. К вопросу о времени массового переселения кабардинцев в центральные районы Северного Кавказа//III Крупновские чтения. Грозный, 1973. С. 20-21.
- Аталиков В.М. Наша старина. Нальчик, 1996. С. 87-141.
- Афаунов А. О местожительстве и потомках Ш.Б. Ногмова//Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Нальчик, 1994. С. 187-188.
- Думанов Х.М. Вдали от Родины. Нальчик, 1994. С. 10-11.
- Нагоев А.Х. Средневековая Кабарда. Нальчик, 2000. Карта.
- Челеби Э. Книга путешествия. М., 1979. Вып. 2. С. 84.
- Дневник майора Татарова, веденный в Кабарде в 1761 г.//Указатель географического, статистического, исторического и этнографического материала в «Ставропольских губернских ведомостях». Первое десятилетие (1850-1859 гг.). Тифлис, 1879. С. 198, 204.
- Багаев М.Х. Кабардинские курганы на р. Фортанге (ЧИ АССР)//Вестник Кабардино-Балкарского НИИ. Нальчик, 1972. Вып. 5. С. 49-50.
- Крупнов Е.И., Мунчаев Р.М. Бамутский курганный могильник XIV-XVI вв.//Древности Чечено-Ингушетии. М., 1963. С. 217-243.
- Виноградов В.Б., Шаова С.Д. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи. Армавир; Майкоп, 2003. С. 17-18, 85-86.
- Даутова Р.А. Позднесредневековые курганные могильники и курганы на территории Чечено-Ингушской АССР//Археология и краеведение -вузу и школе. Грозный, 1989. С. 74.
- Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края (V -середина ХIХ в.). Ростов н/Д., 1984. С. 43, 78-79.
- История многовекового содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией. Нальчик, 2007. С. 82-85.
- Потемкин Г.А. Доклад об учреждении линии от Моздока до Азова//Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XX. С. 518. № 14607.
- Фоменко В.А. Старокабардинская культура: этапы развития и границы распространения//Народы Северного Кавказа и Россия (к 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии с Россией): материалы конференции. Нальчик, 2007. С. 62-63.
- Кузнецов В.А. Верхний Джулат. К истории золотоордынских городов Северного Кавказа. Нальчик, 2014. С. 120. Рис. 2.
- Алексеева Е.П. Кабардинские и западночеркесские курганы Карачаево-Черкесии как источник по изучению этнической истории адыгов//Археология и вопросы этнической истории народов Северного Кавказа. Грозный, 1979. С. 145-150.
- Нагоев А.Х. Средневековая Кабарда. Нальчик, 2000. С. 46-48.
- Мекулов Дж.Х. Тайны древних погребений/отв. ред. К.Г. Шаззо. Майкоп, 1999. С. 23-26.
- Чумичева О.В. Парадоксы «черкасской веры»: между исламом, христианством и языческими традициями//Археология и этнология Северного Кавказа. 2017. № 7. С. 133-145.
- Гуськов М.А., Рунич А.П., Нарожный Е.И. Кабардинские курганы Пятигорья//Археология и краеведение Кавминвод. Кисловодск, 1992. С. 42-47.
- Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII -первая половина XIX в.). М., 1967. 331 с.
- Лавров Л.И. Происхождение кабардинцев и заселение ими нынешней территории//Советская этнография. 1956. № 1. С. 28.
- Березин С.Я., Березин Я.Б., Нарожный Е.И. Позднесредневековые курганы могильника «Иноземцево-1» (Публикация и историческая интерпретация материалов)//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир, 2007. Вып. 8. С. 204-205.
- Лавров Л.И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик, 2009. С. 257-258.
- Bushkovitch P. Princes Cherkasskii or Circassian Murzas. The Kabardians in the Russian Boyar Elite, 1560-1700//Cahiers du Monde russe. 2004. Vol. 45, no. 1-2. Janvier -juin. P. 9-30. https://doi.org/10.21488/jocas.13570.