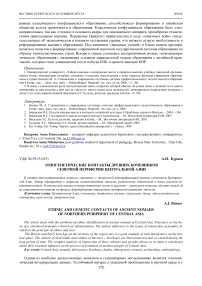Этногенетические контакты древних кочевников северной периферии Центральной Азии
Автор: Бураев Алексей Игнатьевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с этнической идентификацией древних кочевников Центральной Азии. Автор обращается к вопросам взаимодействия этносов, разделенных этнической и даже расовой неидентичностью. Комплексный анализ культур плиточных могил и курганов - херексуров позволил сделать вывод об их существенном влиянии на процесс формирования современных центральноазиатских этносов.
Центральная азия, кочевники, плиточные могилы, херексуры, дунху, этногенетические контакты, археология, антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/148179744
IDR: 148179744 | УДК: 94:39
Текст научной статьи Этногенетические контакты древних кочевников северной периферии Центральной Азии
Одним из наиболее дискуссионных моментов в гуманитарных исследованиях является этногенетическая интерпретация данных. Устойчивый интерес к указанной проблематике в научной среде и у широких кругов населения в целом требует тщательного, комплексного анализа диахронных источников и факторов этногенеза.
По своему образу жизни предки монголоязычных народов – кочевники (на протяжении всей своей письменной истории), что предполагает их высокую мобильность. Известные исторические события, такие как «Великое переселение народов», завоевания тюркских каганов и беспрецедентная территориальная экспансия монголов эпохи Чингисхана, позволяют предполагать наличие здесь мощных миграционных потоков, вплоть до полной смены населения в регионе. Вместе с тем в источниках неоднократно отмечается факт сближения (поглощения) между племенами номадов Центральной Азии. Таким образом, одной из основных региональных исторических проблем является проблема сохранения или прерывания генетической преемственности в исторической динамике.
Один из наиболее значимых периодов в истории Центральной Азии – эпоха поздней бронзы и период раннего железного века, когда здесь проживали население, создавшее памятники культуры плиточных могил, и племена, оставившие после себя курганы-херексуры. Их справедливо считают первыми кочевниками на территории региона. Две эти впечатляющие и весьма многочисленные группы памятников широко известны среди специалистов и довольно хорошо изучены в археологической составляющей (правда, херексуры в значительно меньшей степени).
На основании археологических изысканий определены хронологические и локальные рамки культуры плиточных могил, установлена ее идентичность на всей территории распространения [33; 15; 8; 43; 47].
Несмотря на то, что начало изучению плиточных могил было положено еще в XVIII в., со времени известных сибирских экспедиций по настоящее время остаются по крайней мере спорными существенные вопросы происхождения, развития и исторической судьбы этой самобытной культуры.
Наиболее аргументированными на сегодняшний день представляются две точки зрения. Первая из них, высказанная В.Е. Ларичевым, связывает происхождение культуры плиточных могил с культурой каменных ящиков бронзового века Дунбэя – области на северо – востоке Китая [23]. Гипотеза была комплиментарно воспринята Э.А. Новгородовой [28, c. 211] и П.Б. Коноваловым [19, c. 13]. Аргументация основывается на выявленных параллелях в погребальном обряде и инвентаре. В первую очередь это касается наличия триподов и погребальных сооружений в виде прямоугольных каменных конструкций. Кроме того, исходя из доказанного существования у дунбэйцев смешанного земледельческо-скотоводческого хозяйства, обусловленного географическими особенностями их расселения [23, c. 68], апологеты гипотезы не видят противоречий в укладе жизни населения рассматриваемых культур.
Вторая позиция отрицает генетические связи населения двух культур [8, c. 44; 11, c. 26; 43, c. 150– 151, 159]. Исследователи аргументируют свои возражения первой версии резкими различиями между ярко выраженными кочевниками (плиточники) и земледельцами (дунбэйцы).
Между приверженцами данного направления существуют глубокие различия в определении исходных групп населения, создавших культуры, на основе которых возникло объединение плиточников. В.В. Волков предположил, что культура плиточных могил возникла на основе карасукской культуры, а именно на забайкальском ее варианте, тесно связанном с культурами карасукского типа Северной и Центральной Монголии [8, с. 44]. С ним резко не согласился А.Д. Цыбиктаров, полагая, что предположение В.В. Волкова «лишено… конкретного содержания, т.к. такая археологическая культура (или несколько культур) до сих пор остается неизвестной, а датировка раннего чулутского этапа культуры плиточных могил карасукским временем, XIII–VIII вв. до н.э., вообще снимает это предположение» [43, c . 160]. В свою очередь, исследователь считает, что культура плиточных могил сложилась на местной основе раннебронзового времени [43, c. 158]. Отметим, что аналогии инвентарю плиточников на территории Забайкалья и Монголии фиксируются и в более ранних неолитических памятниках.
В обозначившейся коллизии автор предлагаемой работы безусловно поддерживает предположение А.Д. Цыбиктарова, так как кроме археологических и хронологических несоответствий антропологический тип карасукского населения резко отличается от населения культуры плиточных могил. Вышесказанное никак не противоречит наличию типично карасукских вещей в плиточных могилах, а только указывает на устойчивые культурные связи в регионе.
В числе возможных родственников носителей культуры плиточных могил в последние десятилетия выделяют культуру верхнего слоя Сяцзядянь в северо-восточном Китае [16, c. 17]. Для такого предположения есть существенные причины. Во-первых, представителей этой культуры идентифицируют с племенами дунху, общепризнанными предками монголов [17, c. 87–89]. Напомним, что на- селение культуры плиточных могил также связывают с протомонголами – дунху [8, c. 103–107; 28, c. 211, 212; 7, c. 114–119]. Во-вторых, фиксируются явные аналогии в материальной и духовной культуре двух названных племенных образований. Особо отметим наличие триподов и присутствие образа птицы с распростертыми крыльями в изобразительном искусстве двух культур. При этом наибольшее сходство указанная культура Дунбэя проявляет с дворцовскими памятниками Восточного Забайкалья. Соглашаясь или нет с тем, что А.Д. Цыбиктаров вообще предложил считать дворцовские памятники погребениями знатных плиточников, тем самым декларировав их однокультурность [43, c. 136], нельзя отрицать значительного сходства между этими локальными группами. Выявленные археологические аналогии между культурой верхнего слоя Сяцзядянь, плиточными могилами и дворцовской группой памятников, по всей видимости, свидетельствуют в пользу предположения А.Д. Цыбиктаро-ва, а также могут указывать на близкородственные отношения носителей всех трех традиций. Хронологический размах радиокарбоновых и радиоуглеродных дат по культурам плиточных могил и верхнего слоя Сяцзядянь (по дворцовской культуре даты, полученные естественнонаучными методами, нам не известны), в целом также показывает синхронность их существования [25, 27; 38; 17, c. 87; 46, c. 39]. По совокупности полученных исследователями данных культура плиточных могил датируется с XIII по IV в. до н.э., а культура верхнего слоя Сяцзядянь – с IX по IV в. до н.э.
Последующая судьба носителей культуры плиточных могил покрыта завесой неизвестности, заключающейся в отсутствии переходных археологических памятников между ними и хунну. Заметим, что такая картина возникает, если принять точку зрения ряда исследователей, датирующих появление памятников хунну в Монголии и Забайкалье не ранее II в. до н.э. [12, c. 21; 18], и согласиться с А.Д. Цыбиктаровым, ограничивающим бытование культуры плиточных могил на этой же территории VI в. до н.э. [43].
Вне всяких сомнений, под изложенной позицией есть солидная археологическая база. В то же время аннигиляция человеческих сообществ на территории исследования на три века наверняка не соответствует действительности.
Существует два выхода из сложившейся ситуации: 1 – продлить существование культуры плиточных могил до хуннского времени (как это было принято ранее); 2 – найти доказательства постепенного исхода плиточников (подразумеваем дунху) с родных кочевий.
В связи c этим представляется весьма вероятным второй вариант. К сожалению, нет абсолютных дат по приаргунским памятникам дунху, но просмотренный материал позволяет предположить длительное проживание протомонголов (дунху–сяньби–шивэй) на территории Восточного Забайкалья. С другой стороны, как раз абсолютные даты, полученные по плиточным могилам Приольхонья: VII – III вв. до н.э. [38], позволяют настаивать на реальности проживания плиточников в Прибайкалье вплоть до хуннского периода. Складывается впечатление, что давление хуннского полиэтнического конгломерата осуществлялось в степях Центральной Азии начиная с VII–VI вв. до н.э. Часть дунху в силу мощного натиска противника отодвинулась на Восток (Приаргунье), часть ушла в Прибайкалье (плиточные могилы Приольхонья). Отметим, что погребений хунну в этих местах нет, а какая-то часть влилась в новое политическое образование.
Обратимся к письменным источникам. Согласно В.С. Таскину «Термин дунху появляется в Китае в период Чжань-го (403–221 гг. до н.э.), о чем свидетельствует запись Сыма Цяня: «На севере царства Янь жили дунху и шаньжуны»…. Однако в гл. 34, посвященной царству Янь, о дунху не говорится ни слова. По-видимому, первое упоминание о них относится к 307 г. до н.э., когда правитель владения Чжао Улин-ван (326–299 гг. до н.э.) упомянул, что к востоку от его владения находятся дунху» [36, c. 39]. Приведенная цитата имеет большое значение для рассматриваемого вопроса. Если датировать пребывание дунху к северу от царства Янь по нижней дате, а исследователь склоняется к более позднему варианту, это будет рубеж V–IV вв. до н.э. Следовательно, дунху достаточно активно (попадание в письменное сообщение) проявляли себя на северо-востоке Китая в указанное время, что может свидетельствовать об их движении в этом направлении.
В то же время нельзя не заметить мнения С.А. Комиссарова, который связывает приведенное упоминание дунху с культурой верхнего слоя Сяцзядянь [17, c. 88]. Что касается неожиданного различия в датировании записи, а по Комисарову, это вторая половина VII – первая половина VI в. до н.э., то в данном случае оно не имеет решающего значения, хотя автор настоящей работы склоняется к мнению С.А. Комиссарова, основанному на четко зафиксированном, по Сыма Цяню, времени правления упоминаемых в отрывке владетелей Цзинь и Цинь. Кроме того, обе ссылки на «Ши цзи» являются переводом В.С. Таскина из изданий разного времени [35, c. 36; 36, c. 39] и отмеченное различие может являться простой ошибкой.
Сложившаяся ситуация, по нашему мнению, разрешается достаточно просто: с VII в. до н.э. начинаются постоянные набеги хунну или их предков на кочевья дунху, при этом поначалу они не оставляют на территории Забайкалья сохранившихся до наших дней памятников; дунху под жестким давлением вынуждены либо покинуть родину, либо подчиниться новому гегемону; к III в. до н.э. они либо ассимилированы, либо проживают на окраинах центральноазиатского кочевого мира.
Таким образом, предлагается продлить бытование плиточников как отдельного образования на территории Забайкалья до IV в. до н.э. и признать стационарное присутствие здесь хунну с этого же времени.
К сожалению, высказанное предположение невозможно подкрепить в полной мере антропологическими данными, ибо количество черепов по культуре плиточных могил весьма ограничено.
Антропологические материалы впервые исследованы Ю.Д. Талько-Грынцевичем, однако полная антропологическая характеристика и историческая интерпретация краниологических материалов по населению культуры плиточных могил даны И.И. Гохманом. Исследователи однозначно определились с расовой принадлежностью населения, захороненного в плиточных могилах. В антропологической систематике оно относится к североазиатским монголоидам, сближаясь по основным параметрам с байкальской расой. Были отмечены генетическая преемственность между населением эпохи неолита и позднего бронзового века Забайкалья и несомненное участие последних в этнических процессах в регионе в хуннскую и последующие эпохи.
Отметим, что, несмотря на малочисленность данной серии, краниологический материал из плиточных могил однороден и весьма выразителен. Это позволяет утверждать, что на протяжении эпохи бронзы здесь формируется и концу ее уже складывается гомогенный антропологический тип, отличающий население Забайкалья от населения соседних территорий. Для него характерны брахикран-ная, низкая черепная коробка, очень широкое, средней высоты лицо. Уплощенность лица и переносья выражена очень сильно. Монголоидность носителей культуры плиточных могил не вызывает сомнения и в настоящее время. Более того, появились реальные данные, чтобы признать плиточников вероятными прародителями всем известных средневековых монголов [6, c. 68].
При огромном территориальном распространении памятников культуры плиточных могил антропологическая сущность «плиточников» едина. Данный факт может определяться двумя существенными причинами: во-первых, длительностью существования культуры; во-вторых, многочисленностью народа, ее создавшего. Все экстраполяции позволяют считать, что численность древних кочевников центральноазиатских степей вряд ли отличалась от нынешней, и, скорее всего, нужно принять поправку на уменьшение. Если принять аргументацию А.Д. Цыбиктарова, длительность существования «плиточников» как археологической культуры определяется 7–8 веками, с XIII по VIвв. до н.э. [43, c. 104). По нашему мнению, этот срок можно продлить до IV–III вв. Это огромный период, но вряд ли абсолютно определяющий столь значительную территорию локализации археологической культуры, характеризующейся, на данный момент, антропологической однородностью. Суть территориальной «разбросанности» памятников культуры плиточных могил в ее кочевой принадлежности. «Плиточники» определили способ взаимодействия со средой обитания всех последующих жителей бурятских и монгольских степей.
Таким образом, плиточные могилы дали выразительный, четко идентифицированный и, самое главное, однородный краниологический материал. Происхождение этого населения от неолитических популяций Забайкалья «не вызывает сомнений» у мэтров российской антропологии [2, c. 69], его участие в этногенезе монгольских народов представляется более чем вероятным. Тем более, что, основываясь исключительно на китайских летописях, В.С. Таскин блистательно аргументировал наличие этнических связей между дунху и монголами [36, c. 39–62].
Археология херексуров разработана значительно слабее материальной культуры плиточных могил, что связано с безынвентарным характером памятников. Раскопки херексуров в Забайкалье были начаты Ю.Д. Талько-Грынцевичем еще в XIX в. [34]. В дальнейшем памятники этого типа исследовались здесь А.П. Окладниковым, С.В. Даниловым и А.Д. Цыбиктаровым [30; 13; 40, c. 41, 42, 45). В изучении херексуров Южного Забайкалья исследователи во многом опирались на результаты, достигнутые при изучении идентичных памятников Монголии, Тувы и Горного Алтая. Выводы, к которым пришли Г.И. Боровко, В.В. Волков, Э.А. Новгородова при изучении херексуров Монголии [5; 8; 29]; Г.П. Сосновский, А.Д. Грач, М.Х. Маннай-оол, Л.Р. Кызласов по Туве [14; 10; 26; 22]; Д.Г. Савинов и В.Д. Кубарев на Алтае [32; 20], зачастую существенно отличаются по важнейшим археологическим характеристикам. К настоящему времени большинство исследователей сходятся в понимании однокультурности данного конгломерата памятников на всей огромной территории их распростране- ния [19, c. 30–31; 39,c. 156; 43, c. 143 и т.д.]. Датировка херексуров достаточно сильно варьирует в зависимости от автора и территории исследования в связи с почти полным отсутствием материала. Не впадая в дискуссию, отметим, что для Бурятии представляется приемлемой хронология, предложенная А.Д. Цыбиктаровым, которая основана на стратиграфии херексура с двумя встроенными в его оградку плиточными могилами (мог. Улзыт VI): конец II – начало I тыс. до н.э. [43, c. 140–141). Позже, связав херексуры с памятниками монгун-тайгинского типа Тувы, Юго-Восточного Алтая, Западной и Центральной Монголии, исследователь датировал обе группы памятников серединой 2-го тыс. до н.э. – VIII-VI вв. до н.э. [46, c. 47).
Монгольскими коллегами получены радиокарбоновые даты по трем херексурам, которые укладываются в период от XVII до X вв. до н.э. [47, c. 18; 4, c. 45], что в целом подтверждает предложенную датировку.
Что касается объединения памятников монгун-тайгинского типа и херексуров в рамках одной культуры, более взвешенным выглядит предложение Д.Г. Савинова об отнесении рассматриваемых памятников к единому культурному миру, не заостряя вопрос об их принадлежности к одной или двум разным археологическим культурам [31, c. 107–108; 32, c. 69]. Отсутствие датирующего инвентаря заставляет осторожно подходить к присваиванию строгих дефиниций и выдвижению обобщающих культурогенетических гипотез по отношению к этим группам памятников. Тем более, что вызывает вполне обоснованное сомнение настойчивое стремление А.Д. Цыбиктарова объяснять выявившиеся различия между сходными по другим параметрам типами памятников разницей в социальном статусе погребенных [46, c. 46]. Напомним, что кроме херексуров (родоплеменная знать) и монгун-тайгинских курганов (рядовое население) этой же причиной объясняются отличия между дворцов-скими памятниками (знать) и плиточными могилами (простолюдины) [43, c. 133]. В последнем случае, если принять гипотезу автора, вызывает недоумение отсутствие погребений дворцовского типа в Западном Забайкалье – основной зоне распространения плиточных могил в регионе.
Происхождение херексуров А.Д. Цыбиктаров связал с центральноазиатским вариантом афанасьевской культуры, представленной такими памятниками, как Алтан-сандал и Шатар-чулуу в Монголии, Байдаг-Баары I, Кызыл-Хая и Хайыракан I в Туве [44]. В Прибайкалье и Забайкалье подобные памятники пока не обнаружены. Их отсутствие может указывать на пришлый характер культуры херексу-ров для территории исследования. В то же время гипотеза происхождения специфических черт погребального обряда культуры херексуров от локального варианта афанасьевской культуры представляется весьма продуктивной в смысле прояснения генезиса херексуров и носителей этой яркой культурной традиции.
Дальнейшее развитие культуры херексуров связано с культурами скифского времени в Туве и на Алтае [26, c. 84; 10, c. 30-31], и, вероятно, носители этой традиции приняли участие в формировании культуры и антропологического состава хунну.
Антропология населения, оставившего херексуры, изучена еще более фрагментарно, чем археология. С территории Бурятии, насколько нам известно, вообще нет измеренных черепов из херексуров, хотя сами черепа были [43, c. 143-144]. C другой стороны, учитывая декларированную коллегами однокультурность всего массива памятников подобного типа, можно предположить, что, как и в Монголии [3, c. 231], большинство погребенных европеоидны, хотя согласно А.Д. Цыбиктарову череп из могильника Улзыт III был характеризован И.И. Гохманом как монголоидный и схожий с черепами из плиточных могил [43, c. 144]. Здесь нет непреодолимых противоречий. При довольно значительном перекрывании ареалов друг друга [43, c. 194] и, как представляется, длительном (по крайней мере, несколько веков) проживании в соседях население культуры плиточных могил и херексуров смешивалось как генетически, так и механически. Совместная территория обитания и один образ жизни (кочевой) неизбежно должны были привести к метисации двух рассматриваемых популяций. Действительно, высокая мобильность кочевников, традиционная брачная практика, диктующая брак с представителем не своего родоплеменного образования и обычные для степняков вооруженные коллизии из-за пастбищ или угона скота, зачастую заканчивающиеся уводом противной стороны в свои кочевья, способствовали процессам европеизации «плиточников» и монголизации создателей херек-суров.
О реальности отмеченного процесса свидетельствует единичный череп из херексура у г. Худжиртэ [9, c. 52]. Череп характеризуется противоречивым сочетанием признаков: при сравнительно плоской лицевой части он имеет сильно выступающие носовые кости. По комплексу признаков череп занимает промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расами. Как справедливо заметили авторы, «эти отличия на единичном объекте вполне могут быть индивидуальными особенно- стями данного черепа» [9, c. 53]. Однако имеются в наличии 3 черепа из безынвентарных погребений (памятники монгун-тайгинского типа) в Западной Монголии из раскопок В.В. Волкова [8]. Черепа, изученные В.П. Алексеевым [1], вне всяких сомнений, также относятся к метисированной популяции и, по признанию И.И. Гохмана, обнаруживают «поразительное сходство» с черепом из Худжиртэ [9, c. 54]. Таким образом, создается небольшая серия, по характерным признакам которой можно составить мнение о метисированной части населения, создавшего памятники монгун-тайгинского типа и херексуры.
Автору настоящей работы представляется, что в целом выявившуюся серию, если вообще возможно определить долю примеси другой расы на 4 черепах, можно характеризовать как европеоидную с долей монголоидной примеси.
Генезис европеоидного населения (херексуры) по всей вероятности связан с предшествующими обитателями центральноазиатских степей и европеоидным окружением. Имеются в виду европеоидные черепа с территории Монголии, Тувы, Алтая и Хакасии. По мнению авторов последней палеоантропологической сводки центральноазиатских материалов в эпоху бронзы, «европеоидные черепа из каменных курганов, широко распространенных в западных районах Монголии, заметно не отличаются от тех европеоидных серий, которые вообще известны в степных районах Евразии как в более ранние эпохи, так и в синхронное время» [3, c. 231]. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на два мужских черепа из могильника Шатар-чулуу. Напомним, что А.Д. Цыбиктаров относит памятник к центральноазиатскому варианту афанасьевской культуры и склонен видеть в этой локальной группе основу формирования культурной общности херексуров и курганов монгун-тайгинского типа [46, c. 47]. Черепа описаны Д. Тумэн и Н.Н. Мамоновой [37, c. 4; 24, c. 73], затем, вследствие выявившихся несоответствий по некоторым показателям, вновь измерены И.И. Гохманом [3, c. 210]. Они европеоидны и сходны, если не сказать идентичны, с черепами из афанасьевских погребений Алтая и Минусинской котловины.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что в период энеолита произошла миграция афанасьевского (европеоидного) населения на юго-восток, в степи Монголии и, возможно, Забайкалья, давшая толчок метисационным процессам на этой территории. В последующий период здесь проживает смешанное население, в антропологическом составе которого наряду с европеоидами и монголоидами присутствуют метисированные группы. При этом в составе населения культуры хе-рексуров и памятников монгун-тайгинского типа преобладает европеоидный компонент, население же культуры плиточных могил выражено монголоидно.
Таким образом, население эпохи бронзы, скорее всего, произошло от предшественников на территории проживания. Высказанное предположение относится только к части населения околобай-кальского пространства. В этот период отчетливо проявляется дуалистический характер этнокультурной ситуации в регионе. Здесь сталкиваются два мощных потока, культурно и этнически разнородных. По всей вероятности, население культуры плиточных могил и племена создавшие курганы-херексуры соперничали между собой. Но в то же время длительность сосуществования, захоронение практически в одних и тех же местах, находка в кургане Улзыт III погребенного монголоидного облика (а строители херексуров в основном европеоидны) позволяют предполагать наличие элементов этнического и культурного взаимопроникновения. Нельзя забывать и о кочевом образе жизни, объединявшем, как представляется, население обеих культур на индивидуальном, бытовом уровне. В конце эпохи бронзы в северной части Центральной Азии сложился своеобразный расово-культурный паритет. Монголоидные плиточники и европеоидные носители культуры херексуров были вынуждены к сосуществованию общностью территории и невозможностью полного уничтожения противника (история имеет примеры именно такого разрешения территориального вопроса).
Итак, на рубеже 2-го и 1-го тыс. до н.э. впервые среди кочевников исследуемой территории фиксируются этногенетические контакты между представителями не только разных этносов, но и разных рас. Возможно, именно в рассматриваемый период закладываются первые камни в фундамент центральноазиатской расы.