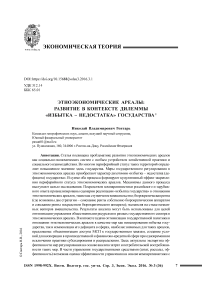Этноэкономические ареалы: развитие в контексте дилеммы "избытка - недостатка" государства
Автор: Гонтарь Николай Владимирович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 3 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблематике развития этноэкономических ареалов как социально-экономических систем с особым устройством хозяйственной практики и социального взаимодействия. Во многом периферийный статус таких территорий определяет повышенное значение здесь государства. Меры государственного регулирования в этноэкономических ареалах приобретают характер дихотомии «избытка - недостатка (дефицита) государства». В сумме оба процесса формируют кумулятивный эффект закрепления периферийного статуса этноэкономических ареалов. Механизмы данного процесса выступают целью исследования. Посредством компаративистики российского и зарубежного опыта проанализированы сценарии реализации «избытка государства» в отношении этноэкономических ареалов, такие как ступенчатое вмешательство; бюрократическая рента (где возможны две стратегии - соискание ренты собственно бюрократическим аппаратом и соискание ренты посредством бюрократического аппарата); экспансия на стыке названных векторов вмешательства. Результаты анализа могут быть использованы для целей оптимизации управления общественными ресурсами в рамках государственного сектора в этноэкономических ареалах. В контексте задачи оптимизации государственной политики в отношении этноэкономических ареалов в качестве мер как нивелирования избытка государства, так и компенсации его дефицита в сферах, наиболее значимых для таких ареалов, предложены: объективизация доступа МСП к государственным заказам, создание условий для кооперации в производственной и финансово-кредитной сфере при одновременном исключении практики субсидирования и распределения. Здесь актуальны экспертиза эффективности мер регулирования на основе анализа затрат и потребительской востребованности таких мер. В части управления государственными средствами (штат, расходы, эффективность) возможна оценка эффективности управления на основе компаративистики с компаниями по управлению коммерческими активами. Также предлагается использовать этнические особенности коллективного взаимодействия как компенсацию текущей рыночной слабости данных ареалов.
Этноэкономика, этноэкономические ареалы, государственное регулирование, социально-экономическое развитие, северный кавказ
Короткий адрес: https://sciup.org/14971185
IDR: 14971185 | УДК: 312.14 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2016.3.1
Текст научной статьи Этноэкономические ареалы: развитие в контексте дилеммы "избытка - недостатка" государства
DOI:
Введение. Многообразие и сложность региональной мозаики России обусловливают потребность в структурированной и многоуровневой политике развития. Вместе с тем такая политика часто оперирует схематичными представлениями о ситуации «на местах», что не позволяет использовать ресурсы общества, управляемые государством, достаточно эффективно.
В ряду пространственных явлений, характеризующихся, с одной стороны, соответствием таким клише, как «периферийные экономики», с другой – отличающихся весьма заметной спецификой внутренних процессов, находятся регионы, где значимую часть экономики составляет так называемая этноэкономика. При этом описания данного феномена как «мелкотоварного производства», «натурального хозяйства», «традиционного хозяйственного уклада» недостаточны [12]. Важным элементом здесь является «этнос», характеризующий генезис и социальную форму локального хозяйственного уклада; также «этничность» позволяет учесть фактор культуры.
Относительно условий формирования этноэкономики Ю.С. Колесников (применительно к Северному Кавказу) указывает на следующие [7]:
– высокая степень анклавности (доминирование гор и предгорий, где преобладают изолированные малые и мельчайшие поселения, имеющие очень ограниченные хозяйственные связи с другими регионами);
– замкнутость, отсутствие развитых коммуникаций, высокие производственные и транспортные издержки;
– фрагментарность и малый размер местных рынков, низкий уровень доходов населения.
На Северном Кавказе, согласно оценкам [2], в этноэкономике за пределами индустриального сектора занято до 80 % автохтонного населения, производится около 20 % продукции растениеводства и 75 % – животно- водства. Этническое предпринимательство, согласно [7], на Северном Кавказе составляет также основу и мелкотоварного сектора (доля которого в экономике макрорегиона достигает 54–56 %). Этноэкономика базируется на экстенсивной занятости на основе использования сырья (преимущественно аграрного), характеризуясь доминированием трудозатратных производств (при жестких ограничениях по земле и капиталу). Ее отличительные черты:
– господство традиционных, преимущественно аграрных, форм хозяйственной деятельности;
– сочетание натуральных и мелкотоварных форм производства;
– использование кустарных ремесел и надомного труда [12].
Регионы Северного Кавказа – пример ареала доминирования этноэкономики, а также – традиционный объект внимания государства, что имеет под собой формальные основания: по уровню душевых доходов населения большинство субъектов здесь характеризовалось в 2014 г. показателем в 14–20 тыс. руб. при среднем по РФ показателе 27,8 тыс.; по душевому объему ВРП отставание от среднего по РФ было 3-кратным и более. Также в 2–3 раза по душевым показателям Северный Кавказ отставал в объеме инвестиций. Наиболее значимым было отставание в сборе налогов – без Ставропольского края СКФО обеспечивал поступление лишь 0,58 % налогов (при доле тех же регионов в населении 4,6 %). Единственная сфера, где показатели региона были относительно значимы, – сельское хозяйство (см. таблицу).
Материалы и методы. Таким образом, место государства в этноэкономических ареалах является весомым, однако механизмы влияния государства на траектории развития таких ареалов не являются однозначными. В статье обсуждается вопрос о формах государственного присутствия в этноэкономичес-
Таблица
Доля регионов Северного Кавказа в социально-экономических показателях РФ, 2014 г., %
|
Регион |
Валовой региональный продукт в 2013 г. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
Продукция сельского хозяйства |
Ввод в действие общей площади жилых домов |
Оборот розничной торговли |
Инвестиции в основной капитал |
|
Российская Федерация |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Республика Дагестан |
0,8 |
0,42 |
2,0 |
2,0 |
1,93 |
1,6 |
|
Республика Ингушетия |
0,1 |
0,05 |
0,1 |
0,3 |
0,07 |
0,1 |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
0,2 |
0,26 |
0,8 |
0,4 |
0,38 |
0,2 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
0,1 |
0,23 |
0,6 |
0,2 |
0,14 |
0,2 |
|
Республика Северная Осетия – Алания |
0,2 |
0,22 |
0,6 |
0,2 |
0,35 |
0,3 |
|
Чеченская Республика |
0,2 |
0,34 |
0,4 |
1,4 |
0,46 |
0,5 |
|
Ставропольский край |
0,9 |
2,25 |
3,4 |
1,5 |
1,75 |
1,1 |
Примечание. Рассчитано по данным Росстата: [19].
ких ареалах, предпосылках и следствиях формирования дихотомии «дефицита – избытка» государственного присутствия в регионах рассматриваемого типа, а также пути оптимизации государственного регулирования. В качестве методов исследования применялась компаративистика российского и зарубежного опыта регулирования в этноэкономических ареалах, а также структуризация форм проявления обозначенной дихотомии.
Основные результаты. Дихотомия «избытка – недостатка» государства как фактор регионального развития формируется в обстоятельствах роста сложности структуры и функций государства, что обосновывается усложнением социальных взаимодействий и усилением «вызовов» и «угроз» развитию. Процессы расширения государства инвариантны экономической системе, и значимо проявляются в номинально «рыночных» экономиках. Так, по данным Heritage Foundation, 67,3 млн американцев, от студентов колледжей до ушедших на пенсию и живущих на социальные пособия, зависят от федерального правительства в вопросах жилья, питания, доходов, пособий учащимся и других форм помощи, хотя эти вопросы некогда считались ответственностью частных лиц, семей, местных общин, церквей и других институтов гражданского общества. Расходы на программы помощи, усиливающей зависимость от государства, в расчете на одного по- лучателя такой помощи в США превышают чистый душевой доход [21; 23].
В этой связи важно подчеркнуть наличие объективных (обеспечивающих общесистемную эффективность) функций государства. К числу таковых мы, вслед за рядом авторов [16], относим: обеспечение сертификации частных прав собственности и защиту жизни и имущества с помощью принудительной силы закона, гарантирование конкурентности рынка, а также – обеспечение прозрачных и нейтральных в отношении различных категорий производителей и потребителей правил функционирования рынков. Значимым критерием исполнения государством своих функций является гарантия добровольности обменов субъектов экономики и достижение эффективности по Парето в рамках таких обменов.
Ключевой проблемой реализации данных объективных функций государства служит его реально складывающийся механизм, который формируется как процесс изъятия чего-либо у одного субъекта (налоги, включая инфляционный), и передачи этого затем другому субъекту (бюджетные расходы, субсидии), что создает отдельный процесс распределения и саму проблему распределения [18]. Таким образом, в данном случае формируется «провал государства», природа которого состоит в направлении активности государства не на обеспечение обменов, а на принуждение к обменам или отсутствию обменов. Одновременно сфера собственно обеспечения обменов оказывается областью недостаточного внимания или дефицита государства.
Дефицит государства, в частности, имеет место в сфере создания условий развития рынков. Так, в республиках Северного Кавказа, где сталкиваются, с одной стороны, нормы адатной регуляции, с другой – нормы современной правовой системы европейского абстрактного права, формируется дефицит влиятельности государства в утверждении законодательных норм и правил, и, как следствие, – обострение таких проблем, как коррупция, недоверие инвесторов, слабая защита прав собственности и ограничение созидательного потенциала рыночных процессов [7].
Анализ институциональной среды российского Северного Кавказа [13] отмечает отсутствие полноценной защиты прав собственности и нормальной практики контроля над исполнением подписанных контрактов. Как следствие, у предпринимателей не возникает стимулов для инвестиций, поскольку права собственности не гарантированы. Наличие таких проблем подтверждается практикой покупки жителями республик недвижимости не в своих, а в соседних регионах, в том числе в городах Ставропольского и Краснодарского краев (Кисловодск, Пятигорск, Сочи, Туапсе, Анапа). Испытывают давление неформальных практик судебные институты; их решения до сих пор во многом зависят от позиций клановых и религиозных сообществ, от принадлежности сторон судебных споров к «титульной нации», что ограничивает использование как привлеченного, так и собственного инвестиционного потенциала. Одновременно только в первой половине 2013 г. на Северном Кавказе зафиксировано более 1 600 преступлений коррупционной направленности [10]. Как следствие затраты в виде «коррупционного налога составляют в регионе 15– 40 % цены продукции. К этому добавляется нагрузка в виде «социальной ответственности», когда для сохранения бизнеса предприниматели вынуждены брать на себя значительные объемы расходов на общественные нужды – ремонт дорог, поддержку спорта и т. д. В результате бизнес вынужден заниматься теневыми операциями, поскольку до- биться приемлемой рентабельности в рамках законопослушного поведения невозможно [7; 8].
Вторым аспектом рассматриваемой проблемы является тренд, формально противоположный рассмотренной тенденции, однако в действительности являющийся ее логическим продолжением, а именно – экспансия (или избыток) государства – распространение его влияния в обществе и экономике. Сопряженность двух названных аспектов деятельности государства объясняется конечностью его административно-управленческих ресурсов, вследствие чего, если таковые направляются на принуждение , то тем самым остается меньше ресурсов для обеспечения обменов.
Избыток государства основывается на «ренте управления», когда услуги, продаваемые на рынке, перестают быть единственным источником доходов и богатства; поток государственных субсидий открывает путь к богатству через установление личного или группового контроля над сферой государственного управления [18]. Это обстоятельство служит ключевым фактором возникновения экспансии государства (доминирование субъективных элементов управления), что ведет к нарушению формальных процедур, формированию злоупотреблений в сфере государственного управления в процессе генерации «ренты управления».
«Избыток государства» по эффекту на экономику сравним с «голландской болезнью»: производственные виды деятельности становятся относительно менее маржинальны, тогда как перераспределение общественных ресурсов в рамках механизма государства становится более выгодным. Этот тренд актуален для РФ, где доходы чиновников всех без исключения регионов до начала настоящего кризиса превышали средние доходы по экономике минимум вдвое [19] (перед началом кризиса в Греции средняя зарплата госслужащего превышала среднюю заработную плату в частном секторе втрое [21]), а заработная плата российских парламентариев в 2016 г. превышает среднюю заработную плату в РФ в 11,5 раз.
Этноэкономические ареалы оказываются «естественным» компонентом системы перераспределения: численность работников государственных органов и органов местно- го самоуправления в регионах СКФО в 2005– 2014 гг. выросла с 69,5 до 143,7 тыс. чел. [19]; объем услуг сферы государственного управления и социального обеспечения составляет в республиках Северного Кавказа в среднем 10–12 % ВРП, в Чечне и Ингушетии – более 20 %, тогда как в среднем по России эта доля равна 2,9 %. Как следствие, если в среднем в России на 1 000 граждан приходится 1,8 государственных служащих, то в Ингушетии – 4,6, в Дагестане – 3,5, а в среднем по СКФО – 2,1 [7].
Аналогично в США в 1980 г. общий бюджет федеральных регулирующих органов насчитывал около 6,2 млрд долл., но к 1999 г. этот показатель вырос в 3 раза – до 18,5 млрд долл. [рост на 57 % в (неизменных) долларах базового периода (1982)]. Число сотрудников федеральных регулирующих органов по сравнению с 1980 г. увеличилось на 10 тыс. человек [5].
Сценарии реализации «избытка государства» в отношении этноэкономи-ческих ареалов. В целом можно говорить о двух базовых сценариях реализации «избытка государства».
-
I. «Ступенчатое вмешательство» предполагает цепочку регулирующих воздействий, где исходное регулирующее воздействие на рынок приводит к дестабилизации последнего, что трактуется как «провал рынка» и является основанием расширения регулирующего вмешательства для ликвидации «провала рынка». В [5] данный кумулятивный механизм государственной экспансии характеризуется кратко и емко: провальная политика расценивается как повод для очередного увеличения налогов, правительственных расходов, а также для введения мер государственного регулирования, призванных «решить» проблемы, которые, однако, возникли ввиду предыдущего вмешательства государства.
Но если данный механизм может быть охарактеризован как непроизвольное следствие регулирования, второй имеет основание в виде интересов собственно бюрократического аппарата, а также – «групп специальных интересов», использующих этот аппарат в своих целях (причем такие группы могут носить как отраслевой, так и территориальный характер).
-
II. Бюрократическая рента представляет собой стимул и механизм экспансии государства в форме регулирования рынков, что привносит нестабильность в экономику, примеры чего дают «рыночные» экономики.
-
II. I. Соискание ренты собственно бюрократическим аппаратом. Здесь упомянем практику США 2, где действует несколько тысяч инструкций Комиссии по биржам и ценным бумагам; Федеральная торговая комиссия претендует на полномочия по регулированию фактически всех сфер деловой деятельности, заканчивая способом маркировки апельсинового сока; налоговое управление требует ведения бухгалтерских книг даже самыми мелкими предприятиями; управление охраны труда, которое не оказало никакого заметного воздействия на уровень безопасности труда, внедрило более 4 000 предписаний. Многие корпорации запуганы диктаторскими полномочиями Управления по охране окружающей среды; землепользование регламентируется федеральным правительством, правительствами штатов и местными органами власти.
В рамках данного «потока» представляется возможным говорить о преднамеренной политике расширения административного контроля над рынком и обществом: так, Министерство торговли США публикует ложную статистику о масштабах бедности с целью «обосновать», например, рост налогов под предлогом их распределения в пользу «малоимущих»: ведомство не вычитает налоги с объявленной прибыли более состоятельных американцев, искусственно завышая их доходы, и не учитывает социальные выплаты «малоимущим», что позволяет искусственно снизить их доход [21].
Как об этом говорится в [5], шантаж и вымогательство являются неотъемлемыми признаками современного процесса государственного регулирования: политические «предприниматели» угрожают правовыми и нормативными актами, которые позволят ввести регулирование цен, либо вызовут увеличение затрат (что в обоих случаях обеспечит снижение размеров прибыли), если «намеченные» компании и отрасли не рассчитаются с политиками посредством отчислений в фонд избирательных кампаний или иными выплатами.
В [21] упоминается, что члены конгресса США накапливают богатства примерно на 50 % быстрее: как отмечает Дж. Швейцер, в 2004–2006 гг. они увеличили собственные капиталы в среднем на 84 % (рост также продолжился в кризис). Изучение 4 тысяч совершенных сенаторами сделок с акциями показало, что доходность этих сделок превосходит среднерыночный уровень доходности на 12 % [26]. «Очень многие вашингтонские законодатели приходят в конгресс людьми скромного достатка и покидают его миллионерами», – говорит Швейцер. Распространена и практика преференций компаниям, финансирующим выборы кандидатов в президенты.
-
II. II. Вторым аспектом экспансии государства выступает соискание административной ренты посредством бюрократии группами интересов, использующими монополию государства на насилие (то есть его эксклюзивную способность адресного перераспределения ресурсов «в свою пользу»).
В качестве соискателя ренты можно назвать сферу, традиционно рассматриваемую как механизм развития периферийных территорий (в том числе российского Северного Кавказа), а именно – малый бизнес. Помощь МСП предоставляется в виде льготных кредитов, грантов, информационной поддержки и консультаций для предпринимателей. Однако в [1] подчеркивается отсутствие убедительных объяснений тому, почему должна приветствоваться эксклюзивная помощь МСП. ВБ причинами этого называет то, что: бизнес в бедных странах представлен преимущественно малыми предприятиями, развитие малого бизнеса может помочь бедному населению выбраться из нищеты, и – малый бизнес вынужден работать в более трудных условиях, чем крупный бизнес [1]. Из информации ВБ можно сделать вывод, что поддержка МСП рассматривается как способ прямой помощи бедному населению. ООН относит к малым предприятиям те, где занято 5–50, а к средним – 51–500 чел., но владелец компании с числом работников до 500 чел. вряд ли может быть причислен к бедному населению.
Риском искусственной поддержки МСП является поддержка относительно менее производительного сектора: МСП, как правило, имеют больше работников на единицу продук- ции по сравнению с крупными компаниями, где объем трудовых ресурсов на единицу готовой продукции, как правило, ниже, но заработная плата – выше, а условия труда – лучше. Искусственное наращивание числа МСП может вести к общему понижению уровня заработной платы [1].
Так, например, в Кабардино-Балкарии отмечается сокращение производства картофеля и переход к его преимущественно натуральному производству, распыление посевов по мелким хозяйственным единицам, не способным использовать достижения научно-технического прогресса [9]. В целом здесь можно вести речь о связи мелкотоварности и ограниченности применения передовых методов хозяйства. При этом мелкотоварность именно этноэкономического сегмента является правилом. Так, среди КФХ и индивидуальных предпринимателей республики наиболее распространенной является площадь обрабатываемых земель до 3 га. Такую площадь имеют более 60 % хозяйств и ИП, 18,1 % хозяйств обрабатывают площадь до 10 га. Площадь от 1 000 га обрабатывают всего два хозяйства и свыше 2 000 га – одно. Наибольшая доля органических удобрений вносится в хозяйствах с площадью сельскохозяйственных угодий до 3 га и – с 11 до 20 га. Но выбор органических удобрений обусловлен не экологическими приоритетами, а отсутствием средств на удобрения (как и на увеличение возделываемой арендной площади). Доля площадей, под которые внесены минеральные удобрения, среди КФХ и ИП Кабардино-Балкарии составляет 36,7–48,8 %, за исключением ряда хозяйств. Органические удобрения в этой категории хозяйств вносятся в очень ограниченных количествах, а доля удобренных земель не превышает 9,3 % общей площади сельхозугодий [4].
Поддержка МСП по причине того, что они в первую очередь страдают от сложных условий ведения бизнеса, является важным аргументом в пользу экспансии государства, однако одновременно таковая служит и иллюстрацией исследуемой дилеммы «избытка – недостатка» государства. В частности, весьма распространенным является недостаток кредитов МСП в силу отсутствия залогов. Однако причиной этого, также на примере Кабардино-Балкарии, можно назвать именно институциональ- ный дефицит (отсутствие принятого и законодательно закрепленного механизма перераспределения прав собственности) в сфере земельных отношений. Так, в регионе существует мораторий на приватизацию земли, связанный с неурегулированностью вопросов собственности. В настоящее время в республике все сельскохозяйственные земли переданы в муниципальные органы самоуправления. Сельскохозяйственные предприятия, КФХ и иные предприятия берут землю в аренду [7]. Однако такая ситуация не позволяет включать земельный надел в рыночный оборот или предлагать в качестве залога.
Характерно, что МСП как «группа интересов» может образовывать симбиоз с государством, где поддержка сектору оказывается в рамках политической компании. Традиционен больший потенциал именно крупных агрохолдингов в получении льгот и субсидий. Однако обилие мелких агропроизводителей может породить поток льгот, используемый как политический инструмент: так, сельскохозяйственное лобби имеет политическое влияние в рядах Либерально-демократической партии Японии; а политический голос агропромышленного лобби усилен самой избирательной системой: голосование в малонаселенных сельских районах имеет больший вес, чем голосование в городских районах. Это привело к принятию огромного количества квот на импорт и программ поддержания цен в Японии [15].
Иным примером деятельности «групп интересов» в связи с развитием периферийных территорий является введение в США так называемого Закона о реинвестировании общественных групп (ЗРОГ). Закон был принят в 1978 г. под предлогом того, что банки выдают меньше займов жителям менее зажиточных районов не потому, что в них проживает меньше кредитоспособных заемщиков, а по причине «дискриминации» жителей подобных районов, преимущественно чернокожих. В этой связи в США возникла целая индустрия «общественных групп», таких как Центр общественных перемен или «Ассоциация общественных групп, выступающих за немедленные реформы», которые, по сути, вымогают деньги у банков под угрозой препятствования их деятельности (заключению сделок по сли- янию или расширению бизнеса). Такие группы часто предъявляют жалобы и не отзывают их до тех пор, пока банки не передадут им или группам, на которые они укажут, крупные суммы, подчас – десятки миллионов долларов. Так, Американское объединение соседской взаимопомощи (АОСВ) «выиграло» обязательства выдать кредиты на общую сумму в 3,8 млрд долл. у корпорации Bank of America, корпорации First Union, финансовой группы Fleet лицам, пользующимся расположением АОСВ [5].
-
III. Экспансия на стыке ступенчатого вмешательства и соискания бюрократической ренты. Здесь можно упомянуть региональную политику , часто реализуемую в форме выравнивания социально-экономического развития регионов, включая этноэкономи-ческие ареалы. Развитые страны имеют структурированную (по программам и институтам) систему мер поддержки территорий, отстающих в том или ином отношении. Среди таких территорий значимое место занимают этноэкономические ареалы, например, – в Канаде, Швеции, США, ЕС [12].
В России, с ее обилием регионов, значимо различающихся по социально-экономическим параметрам и формам организации жизни, как ни парадоксально, региональная политика отсутствует. Характеризуя сложившуюся практику, А. Швецов [22] отмечает, что действия федеральной власти в сфере регионального и местного развития так и не обрели качества системной целостности, что дало бы основания квалифицировать их как полноценную региональную политику. На отсутствие целостного государственного подхода указывает и В.Н. Лексин [11]. Сама методологическая платформа оценки пространственной региональной дифференциации регионов РФ (как база региональной политики) также подвергается разносторонней и справедливой критике (см.: [3] и др.). Как следствие, расчеты демонстрируют как минимум ограниченность результатов «выравнивания» в ряде развитых стран, а также в ЕС [17].
В отношении этноэкономических ареалов иллюстрацией является практика помощи индейцам в США. Дж. Стоссел пишет: «Ни одной другой группе населения правительство США не оказывало больше “помощи”, чем американским индейцам. Правительство сделало резервации большинства индейских племен государственными территориями, оказывает им медицинские услуги, платит за жилье индейцев и уход за их детьми. У 20 разных министерств и государственных ведомств есть особые «индейские» программы. Результатом всей этой помощи стали самые высокие уровни бедности и самая низкая ожидаемая продолжительность жизни у индейцев. Дж. Стоссел противопоставляет эту унылую картину истории индейцев-ламби (Северная Каролина). Это племя никогда не получало государственной помощи, поскольку федеральное правительство не признало их «племенем», но сегодня ламби владеют своими жилищами и преуспевают в бизнесе. В их числе – владельцы Sacramento Kings и Cracker Barrel Restaurants. Ламби учредили первый принадлежащий индейцам банк, который имеет 12 филиалов. В округе Робсон отсутствуют традиционные для резерваций казино, однако имеют место дома в стиле английских усадеб [21; 27].
В свою очередь, жители Аппалачей отмечали, что причиной неудачи государственных программ ликвидации бедности был не недостаток средств. Совсем наоборот: Денис Хоффман, 46-летний фермер, считает: «Война с бедностью – самое плохое из того, что случалось с Аппалачами. Она дала людям возможность сводить концы с концами, не работая». Исчезла необходимость зарабатывать на жизнь [24].
Региональная политика также часто оказывается далека от социальной справедливости: так, стимулирующие выплаты в расчете на душу населения с марта по декабрь 2009 г. были в 2 раза больше в пяти наименее густонаселенных штатах США, чем в остальной Америке. Симптоматично, что эти пять штатов контролируют 10 % сената, хотя в них проживает лишь 1,2 % населения. Напротив, за последние двадцать лет душевое транспортное финансирование десяти наиболее населенных штатов было вдвое меньше, чем финансирование десяти наименее населенных штатов [21].
Схожа с рассматриваемой ситуация на российском Северном Кавказе: по образному выражению Р. Абдулатипова, «Дагестан кор- мили, но не лечили. Дагестан кормили, но не развивали. Фактически невозможно найти ни одного института, ни одного источника, который работал бы на развитие Республики. Следовательно, мы приходим к выводу, что нужен совершенно новый формат развития» [7]. За 10 лет из федерального бюджета по различным каналам в регионы Северного Кавказа было направлено 800 млрд рублей. Однако «кардинально изменить характер региональной экономики не удалось»; принимаемые «Стратегии» и «Программы» социально-экономического развития российского Кавказа реализуются лишь частично, нередко превращаясь в «пылесос» бюджетных ресурсов. Попытки увеличения числа новых рабочих мест в целях борьбы с безработицей в северокавказских республиках также оказались неэффективны; перспектива превратиться в «синих воротничков» на промышленном предприятии не впечатляет молодежь Северного Кавказа [7].
В этноэкономических ареалах РФ данные процессы нивелируют роль государства, поскольку создаваемые институты развития регионов Северного Кавказа превращаются в инструмент поддержки приближенных к власти хозяйствующих субъектов, действующих в традиционных для региона секторах экономики. В этом случае субсидии и льготы, предоставляемые государством на федеральном и региональном уровнях, стимулируют не столько инновационное развитие, сколько традиционные, не связанные с какими-либо серьезными рисками виды производства [7].
Выводы. Рассмотренные механизмы реализации государством своих функций сегодня, как показано выше, формируют систему с положительной обратной связью: как «избыток», так и «дефицит» государства действуют в одном направлении, не позволяя трансформировать периферийную модель развития. Преобладающие механизмы актуальной государственной политики исходят из концепции периферийности как следствия недостатка инвестиций (и, соответственно, – задачи насытить экономики регионов трансфертными ресурсами и государственными инвестициями). Такая стратегия сталкивается с рисками формирования внеэкономического потока прибыли, что порождает соискание бюрократической ренты. В этих условиях сбалансированная стратегия государства в отношении этноэкономических ареалов, с учетом их внутреннего потенциала, могла бы складываться из ряда компонентов. Так, обладая ресурсами, формально направленными на решение задач развития, государство обязано обеспечить их фактическое использование в таковом ключе. В частности, важно расширение доступа субъектов малого предпринимательства на рынок государственных и муниципальных закупок. Сегодня данная сфера является объектом разнообразных злоупотреблений: тендерные проблемы характерны практически для всех регионов России [6], причем количество нарушений в этой сфере увеличивается: с 2015 г. наблюдается значительный рост выявленных сговоров на торгах. Распространенные нарушения – создание тех-заданий под конкретного поставщика или участие подставных компаний. Требование о том, что государственные и муниципальные заказчики обязаны 15 % закупок осуществлять у МП, формально соблюдается, но на практике крупные контракты часто делятся еще до проведения конкурсов, а требования об обязательном участии малых предприятий обходятся путем создания собственных ИП и МП.
Преодоление «дефицита государства» в области доступа МСП к госзаказу важно, поскольку решает проблему доступа к финансированию сегмента бизнеса, максимально представленного в этноэкономических ареалах РФ. Этот подход способен отчасти смягчить и проблему недостатка, дороговизны кредитов для МСП, а также отсутствие у них залогов. При этом непродуктивным следует признать субсидирование кредитов, или иное искусственное стимулирование, то есть «развитие» (выделение бюджетных средств по нерыночным критериям) отдельных сфер (малое инновационное предпринимательство, биз-нес-инкубаторы, технопарки, проч.), поскольку спрос здесь создается со стороны государства (а не со стороны рынка) как главного инвестора таковых проектов.
Ликвидация «дефицита государства» в части создания механизмов развития состоит, в частности, в формировании институциональной базы расширения кооперации. Система кредитной кооперации в этноэкономичес- ких ареалах важна, поскольку также могла бы стать альтернативой государственному инвестированию. В собственно производственной сфере кооперация позволяет изжить такие недостатки этноэкономического сегмента, часто аграрного и мелкотоварного, как маленькие размеры земли, низкий стартовый капитал, отсутствие специально подготовленных менеджеров (таковую роль может выполнять глава семейства, далеко не всегда имеющий специальное образование; также фермерам довольно трудно самостоятельно реализовать, сохранить или переработать продукцию). В перспективе сельхозкооперативы могут наладить сбыт конечной продукции, обеспечить переработку и хранение сырья, укрепить производственную, материально-техническую базу, способствовать внедрению инновационных технологий, повысить производительность труда и доходы [20].
Актуальным механизмом устранения «избытка» государства следует признать инвентаризацию мер административного контроля и регулирования, выявление функций государства, эффект которых не доказан с учетом затрат на реализацию таких мер (содержание бюрократического аппарата, разработка, реализация и контроль мер регулирования). Наконец, этническая составляющая представляется важным механизмом активизации нераспределительных стратегий экономического поведения с учетом традиций формирования ячеек взаимопомощи. В отсутствие распределительного потока, искажающего межличностные и межгрупповые взаимодействия, возможно более полное использование потенциала общин в коллективном решении проблем территорий, не обладающих достаточным потенциалом конкуренции по рыночных критериям.
Список литературы Этноэкономические ареалы: развитие в контексте дилеммы "избытка - недостатка" государства
- Андерсон, Р. Просто не стой на пути. Как государство может помочь бизнесу в бедных странах/Р. Андерсон. -М.: Мысль, 2012. -379 с.
- Белозеров, В. С. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе/В. С. Белозеров. -Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. -156 с.
- Глущенко, К. П. Об оценке межрегионального неравенства/К. П. Глущенко//Пространственная экономика. -2015. -№ 4. -С. 39-58.
- Гукежева, Л. З. Состояние и тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР/Л. З. Гукежева, Н. Х. Каирова//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. -2012. -№ 1. -С. 48-57.
- Дилоренцо, Т. Внезапные нападения регулирующих ведомств/Т. Дилоренцо//Маэстро бума. Уроки Японии. -Челябинск: Социум, 2003. -С. 239-261.
- «Заряженные сделки»//Российская газета -Экономика Юга России. -2016. -12 июля .
- Колесников, Ю. С. Проблемы модернизации периферийной экономики российского Кавказа/Ю. С. Колесников//Проблемы прогнозирования. -2014. -№ 4. -С. 99-107.
- Кувалин, Д. Б. Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния/Д. Б. Кувалин. -М.: МАКС-Пресс, 2009. -347 с.
- Кучменов, А. Ю. Проблемы развития отрасли картофелеводства в АПК Кабардино-Балкарской Республики/А. Ю. Кучменов//Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. -2012. -№ 2. -С. 135-140.
- Латухина, К. На кавказском направлении/К. Латухина//Российская газета -Федеральный выпуск. -2013. -№ 6178 (202).
- Лексин, B. Н. К методологии исследования и регулирования процессов территориального развития/B. Н. Лексин//Регион: экономика и социология. -2009. -№ 3. -С. 12-24.
- Овчинников, В. Н. Силуэты региональной экономической политики на Юге России/В. Н. Овчинников, Ю. С. Колесников. -Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. -237 с.
- Овчинников, В. Н. Этноэкономика как фактор развития/В. Н. Овчинников, Ю. С. Колесников//Проблемы прогнозирования. -2006. -№ 1. -С. 118-123.
- Овчинников, О. Г. Современные проблемы депрессивных сельских районов США и пути их решения/О. Г. Овчинников//США -Канада. Экономика, политика и культура. -2008. -№ 9. -С. 107-127.
- Пауэлл, Б. Объяснение японской рецессии/Б. Пауэлл//Маэстро бума. Уроки Японии. -Челябинск: Социум, 2003. -С. 108-129.
- Радыгин, А. Д. «Провалы государства»: теория и политика/А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов//Вопросы экономики. -2012. -№ 12. -С. 4-30.
- Региональ ная политика: зарубежный опыт и российские реалии/под ред. А. В. Кузнецова, О. В. Кузнецовой. -М.: ИМЭМО РАН, 2015. -137 с.
- Ротбард, М. Власть и рынок/М. Ротбард. -Челябинск: Социум, 2010. -418 с.
- Сайт Росстата. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm. -Загл. с экрана.
- Тамахина, Л. Ф. Кооперация -путь к успешному развитию сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики/Л. Ф. Тамахина, А. Я. Тамахина//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2015. -№ 3. -С. 289-292.
- Форбс, С. Манифест свободы/С. Форбс, Э. Эймс. -М.: Азбука-Бизнес: Азбука-Аттикус, 2014. -352 с.
- Швецов, Л. Государственная региональная политика: хронические проблемы и актуальные задачи системной модернизации/Л. Швецов//Российский экономический журнал. -2007. -№ 11-12. -С. 20-61.
- Beach, W. The 2012 Index of Dependence on Government/W. Beach, P. Tyrell//Special Report #104, The Heritage Foundation. -February 8, 2012. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.heritage.org/research/reports/2012/02/2012-index-of-dependence-on-governnment. -Title from screen.
- Janofsky, M. Pessimism Retains Grip on Appalachian Poor/M. Janofsky//New York Times. -February 9, 1998. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.nytimes.com/1998/02/09/us/pessimism-retains-grip-on-appalachian-pooi.htm1Ppagewanted=alL. -Title from screen.
- Lewis, M. Beware of Greeks Bearing Bonds/M. Lewis//Vanity Fair. -October 1, 2010. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.vanityfair.com/busin ess/features/2010/10/greeks-bearing-bonds-201010. -Title from screen.
- Schweizer, P. Throw Them All Out/P. Schweizer. -Orlando, FL: Houghton Mifflin Harcourt, 2011. -Р. XVII.
- Stossel, J. Government Creates Pover ty. Reason Foundation/J. Stossel. -Electronic text data. -Mode of access: http://reason.com/archives/2011/04/28/government-creares-poverty (date of access: 28.04.2011). -Title from screen.