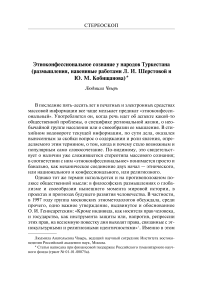Этноконфессиональное сознание у народов Туркестана (размышления, навеянные работами Л. И. Шерстовой и Ю. М. Кобищанова)
Автор: Чвырь Людмила Анатольевна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Стереоскоп
Статья в выпуске: 2, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911793
IDR: 14911793
Текст статьи Этноконфессиональное сознание у народов Туркестана (размышления, навеянные работами Л. И. Шерстовой и Ю. М. Кобищанова)
В последние пять-десять лет в печатных и электронных средствах массовой информации все чаще мелькает предикат «этноконфесси-ональный». Употребляется он, когда речь идет об аспекте какой-то общественной проблемы, о специфике региональной жизни, о необычайной группе населения или о своеобразии ее мышления. В стихийном водовороте текущей информации, по сути дела, оказался вынесенным за скобки вопрос о содержании и роли явления, определяемого этим термином, о том, когда и почему стало возможным и популярным само словосочетание. По-видимому, это свидетельствует о наличии уже сложившегося стереотипа массового сознания; в соответствии с ним «этноконфессиональное» понимается просто и банально, как механическое соединение двух начал — этнического, или национального и конфессионального, или религиозного.
Однако тот же термин используется и на противоположном полюсе общественной мысли: в философских размышлениях о глобализме и своеобразии нынешнего момента мировой истории, в проектах и прогнозах будущего развития человечества. В частности, в 1997 году группа московских этнометодологов обсуждала, среди прочего, одно важное утверждение, выдвинутое и обоснованное О. И. Генисаретским: «Кроме индивида, как носителя прав человека, и государства, как инструмента защиты или, напротив, репрессии этих прав, на всеземную повестку дня выходят права, связанные с этнокультурными и религиозными идентичностями» 1. Именно в этом
Людмила Анатольевна Чвырь, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, Москва.
автор тезиса видел новизну нынешней глобальной ситуации. Независимо от итогов и способов обсуждения, типичного для философов и культурологов, но весьма непривычного для историков, для всех, безусловно, исключительно важен сам факт постановки этого вопроса.
А что же этнографы/этнологи, которым по статусу полагается изучать все, что имеет отношение к этнической сфере? В разработке «этноконфессионального» отечественные этнографы в самые последние годы также продвинулись вперед. Правда, в отличие от культурологов и философов, они высказывают свои догадки и разрабатывают гипотезы на основе постепенного выявления, а затем тщательного анализа многочисленных исторических реалий. Кроме того, этнографический подход строится в ином, ретроспективном ключе, когда суть этноконфессиональных общностей, варианты и формы их развития рассматриваются и выясняются на разных этапах мировой истории.
Как бы то ни было, сам факт постепенного развертывания этно-конфессиональной тематики в гуманитарных исследованиях последних лет, очевидно, не случаен и сулит появление многомерного и разнопланового исследования этого сложного феномена.
Соотношение «этнического» и «религиозного» стало предметом пристального внимания этнографов лишь с конца 1960-х годов (С. И. Брук, Н. Н. Чебоксаров, П. И. Пучков, Я. В. Чеснов и др.). В последующие годы на эту тему появилось множество частных материалов, и постепенно среди этнографов сложились некие общепринятые подходы к изучению этноконфессиональных групп (ЭКГ) 2, по существу, собственные исследовательские стереотипы. В последнее десятилетие стала очевидной потребность обобщить накопленные данные, и с этим, на мой взгляд, довольно удачно, справились два автора — Л. И. Шерстова 3 и Ю. М. Кобищанов 4. На их выводах хочется остановиться подробнее, поскольку критика ими существующих ныне исследовательских стереотипов и попытки их преодоления, получившие отражение в статьях обоих коллег, ценные сами по себе, необходимы для дальнейшего продвижения в исследовании проблемы этноконфессионального феномена в целом.
отталкивались от одинаковых убеждений и пришли, очевидно кон-вергентно, к некоторым общим выводам. Одни из этих выводов представляются бесспорными, другие — дискуссионными.
Во-первых, оба они твердо убеждены, что субъектом истории являются исключительно народы, этносы, а этноконфессиональные общности (группы) — хотя и своеобразные образования, но, тем не менее, части этносов 5. Во-вторых, оба автора признают древность феномена ЭКГ, хотя его расцвет и разнообразие относят к периоду феодализма, средневековых государств, ко времени широкого распространения мировых религий. В-третьих, они считают, что в новое время характер ЭКГ уже в некоторой степени подвергся трансформации: они превратились в узколокальные, ограниченные, малые группы (типа духоборов и меннонитов) либо представляют собой «переходную форму» от одного типа этнической общности к другой 6 и в этом своем качестве способствуют формированию наций 7.
Несмотря на широкое признание указанных положений в этнографической среде, некоторые из них все же вызывают возражение или нуждаются в уточнении. Например, утверждение об этносах как о единственном субъекте истории культуры — это всего лишь постулат, долгое время принятый в этнологии. С накоплением материала относительность этого утверждения становится все более очевидной 8. Вопрос же об ЭКГ как части этносов остается открытым вплоть до детального определения самого феномена.
Но спорные вопросы отнюдь не должны заслонять от нас то позитивное, что привнесли оба автора в разработку проблемы этно-конфессиональных общностей.
Так, подытоживая собственные материалы по Алтаю, а также некоторые выводы предшественников, Л. И. Шерстова подчеркивает общеизвестный тезис о существовании двух основных типов ЭКГ. Тип первый: люди из разных этносов объединяются сугубо на религиозной почве (те же меннониты). Тип второй: несколько близкородственных групп объединяются по каким-то причинам, а общие верования (религия, секта) лишь дополнительно консолидируют объединение. В последнем случае некое этническое новообразование вполне сознательно избирает конфессию (или ее подразделение) и «этнизирует» ее 9. Более того, Л. И. Шерстова подмечает, что «в новое и новейшее время этнообразующее действие религии… проявляется все отчетливее». Типичный случай ЭКГ — алтай-кижи, создавшие в XX веке новую синтетическую религию бурханизм 10.
Вклад Ю. М. Кобищанова еще очевиднее. Фактически он пробле-матизировал разнообразные материалы об ЭКГ — зафиксировал разные аспекты их возможного анализа, выявил связанные с ними ключевые понятия (например, понятие «система ЭКГ») в разные периоды истории и в разных странах, очертил мировые ареалы с минимальным и максимальным бытованием ЭКГ. Но особенно важными представляются те его положения, отталкиваясь от которых я и буду далее рассматривать туркестанский материал.
Прежде всего, Ю. М. Кобищанов внятно и недвусмысленно артикулировал тезис о двух основных разновидностях ЭКГ: «малых» — группах иноверцев-инородцев, живущих среди титульного народа, и «больших» — «совпадающих с основным крестьянским ядром населения страны или этноса», то есть с этническим большинством 11. Возможность восприятия целого этноса (неважно, крупного или небольшого) или этнического большинства в качестве своеобразной этноконфессиональной общности или группы никем, собственно, не отрицалась, но и не использовалась; подспудно же под ЭКГ обычно подразумевались и подразумеваются все-таки религиозные меньшинства с этнически однородным составом.
Далее, на примере Эфиопии и Судана Кобищанов попытался показать, что каждая из этих двух разновидностей ЭКГ образует еще и иерархию этноконфессиональных подгрупп и общин 12. Это заключение уже представляется дискуссионным, поскольку приведенные им примеры вряд ли свидетельствуют о наличии иерархии; скорее мы имеем дело с совокупностью больших и малых этноконфессио-нальных групп, не связанных между собой. Не случайно сам Кобища-нов оговаривает это обстоятельство, полагая, что первично каждая из названных им ЭКГ (любого масштаба), по-видимому, была «просто» этнической общностью, а позже все они приобрели свои конфессиональные отличия. Но если эта оговорка значима, то и логический вывод может быть лишь один: любая ЭКГ, независимо от ее уровня или масштаба, не может быть частью этноса, ибо в сознании ее членов уже отделилась от него; если же группа еще считает себя неотъемлемой частью данного этноса и окружающие согласны с этим, то она не этноконфессиональная, а внутриэтниче-ская конфессиональная группа. Так же и изнутри ЭКГ может делиться (как оно в действительности и бывает) на сословные, локальные, иногда профессиональные и прочие подгруппы, но никогда — на эт-ноконфессиональные.
Критерием, позволяющим различать этноконфессиональные и «просто» конфессиональные (религиозные) группы, является, как совершенно точно указал Кобищанов 13, самосознание членов тех и других групп в сочетании с мнением окружающего населения. Есть государства с поликонфессиональным населением, в которых сосуществуют и этноконфессиональные, и конфессиональные группы. Например, в Китае синоязычная группа христиан относится к конфессиональной группе, поскольку и они сами, несмотря на нетрадиционную религию, и все окружающие считают их китайцами; в то же время синоязычных мусульман рассматривают в качестве «других», «не вполне китайцев», и это типичный случай ЭКГ. Прочие разновидности ЭКГ в Китае — не более чем малые группы иноверцев и одновременно инородцев 14. Впрочем, этот вопрос еще требует дальнейшего изучения.
Прежде чем перейти к самосознанию туркестанцев, следует сказать несколько слов об ЭКГ в исламе. О них Кобищанов тоже писал, но многие его тезисы и примеры спорны. Он абсолютно прав, когда подчеркивает, что в официальном исламе (как и в христианстве) ЭКГ в принципе невозможны. Тем не менее среди населения мусульманских стран всегда были и есть особые группы, обычно относимые к ЭКГ.
Бесспорный случай таких ЭКГ — иноязычные, иноэтничные христиане и иудеи ( зиммии в эпоху арабо-мусульманских халифатов или общины- миллеты в Османской империи). Но, помимо этих очевидных чужаков, среди собственно мусульман иногда тоже выделяются обособленные группы. Таковы, скажем, вкрапления небольших групп шиитов в суннитской среде; при некоторых исходных этнических различиях они с течением времени превращаются в настоящие ЭКГ. Примером могут послужить памирцы, очень отдаленные родственники таджиков, резко отличающиеся от них в религиозном плане (они не сунниты, а исмаилиты). Другой пример — ирани , уже значительно ассимилированные таджиками, но сохранившие в своей обрядности и сознании следы прошлого шиизма и «иранства» (может быть, это случай уже исчезающей ЭКГ, перерождающейся, меняющей свой статус на этническую группу таджиков).
Еще одна специфическая группа мусульманского населения во всех исламских государствах — ходжи, сейиды и прочие «благородные» люди. В начале исламизации неарабских стран, в частности Туркестана, Мавераннахра, арабы — проповедники новой религии, оседая здесь небольшими группами, по существу, превращались в ЭКГ. Ибо как представители иного, несреднеазиатского этноса и
«чистого» ислама они значительно отличались от местных жителей, язычников или полуязычников, поначалу поверхностно принявших мусульманство. С течением времени группы арабов были ассимилированы местным населением (в языковом, этнографическом и религиозном смысле) и фактически растворились в нем; и все же сами они до сих пор сохранили особое самосознание и остатки былой эндогамной обособленности, а окружающие их рядовые мусульмане — особое отношение к ним. Скорее всего, указанные изменения моделируют трансформацию ЭКГ в типичное для мусульманских сообществ социально-религиозное сословие.
Принципиально иным типом ЭКГ в Туркестане Кобищанов считает суннитские мазхабы (ханафитский, маликитский, шафиитский) и суфийские тарикаты . Приводимые им восточно-африканские примеры свидетельствуют в пользу этого предположения 15, хотя вряд ли оно справедливо вообще . В том же Туркестане совпадения мазхабов с разными этносами не наблюдаются. Поэтому пока нет убедительных оснований отказываться от определения мазхабов и суфийских орденов как чисто конфессиональных, наднациональных объединений, где «этническая» принадлежность вовсе не актуальна. Дробное членение суфийских орденов, выявление их характерных черт в соответствии с этническими особенностями разных стран или даже регионов широко не проводились, хотя это, несомненно, следовало бы сделать.
Последнее, по мнению Кобищанова, разделение внутри среднеазиатского ислама связано с двумя основными хозяйственно-культурными укладами населения, оседлыми и кочевыми (тюркоязычными) мусульманами. Суннизм последних обычно рассматривается в качестве относительного, поскольку именно в кочевой среде якобы особенно сильны пережитки «древнетюркских верований» 16.
Это утверждение справедливо лишь отчасти. Во-первых, дому-сульманские верования тюрок включали не только их собственную «религию», но и элементы, заимствованные из буддизма, манихейства, зороастризма и других религиозных доктрин. Во-вторых, существует предположение, что на общетуркестанском суннитском фоне как раз кочевые тюрки в разные периоды истории испытали наибольшее влияние со стороны шиитски ориентированных проповедников (остается открытым вопрос о времени этого влияния) 17. В любом случае необходим дальнейший поиск аргументов, подтверждающих или опровергающих предположение о своеобразии «оседлого» и «кочевого» ислама в Туркестане.
II
Как известно, географически Туркестан занимает пространство к югу от степной полосы Евразии до отрогов Копетдага, Памира, Куньлуня и от Каспийского моря на западе до озера Лобнор на востоке. Население Туркестана издревле составляло историко-культурное единство, будучи — и в прошлом, и в настоящем — разделенным политически. Восточный Туркестан или Синьцзян — это часть Китая, а Средняя Азия после распада СССР «составилась» из новых независимых государств, входящих в СНГ. В этническом плане население обеих частей Туркестана довольно близко, и этнологи привыкли разделять его на крупные этносы, а уже среди последних отмечать «малые» этнические или этноконфессиональные группы (ирани, бухарские евреи, долоны, лобнорцы и пр.). Однако историкокультурное районирование Туркестана 18 дает основание усомниться в том, что такое разделение является единственно возможным. Напротив, вполне уместно в порядке гипотезы предположить, что таджики, уйгуры, оседлые узбеки, как, вероятно, и другие коренные народы региона, представляют собой так называемые «большие» эт-ноконфессиональные группы или общности.
Гипотеза о принадлежности оседлых туркестанцев к этнокон-фессиональным общностям ставит вопрос о наличии этнических вариантов ислама в Туркестане. Академический ответ скорее всего будет однозначно отрицательным. В ученой среде туркестанский ислам считается в значительной мере унифицированным: суннизм ха-нафитского толка. В то же время любое этнографическое описание комплекса народных верований конца XIX–XX веков включает и собственно мусульманский, и домусульманский элементы. В публикациях, посвященных вопросам бытования ислама в казахской среде, верований киргизов или исламу в Узбекистане, исследователи обычно ограничивались пределами одного народа; поэтому зафиксированные в разных уголках Туркестана особенности местного ислама почти автоматически относили к этносам (а не локальным, хозяйственно-культурным или каким-либо иным социальным группам).
Внушительный итог предыдущих этнографических исследований, особенно проделанных во второй половине XX века, заключается в том, что был собран и проанализирован колоссальный материал о домусульманских верованиях, сохранившихся у современного населения. Но и это направление еще не исчерпано до конца, поскольку многоплановое и систематическое сравнение верований по всему региону фактически еще не проводилось, а отдельные исключения по частным вопросам (в частности, известные книги Г. П. Снесарева и В. Н. Басилова) лишь подтверждают общее правило. Кроме того, остается неясным соотношение мусульманских и домусульманских элементов в системе верований каждого народа 19. Не исключено, что работа в данном направлении как раз и поможет обнаружить устойчивые этнические (этноконфессиональные?) отличия в среде населения Туркестана.
Известно также, что простонародный ислам в Средней Азии и Синьцзяне с первых своих шагов испытывал сильные суфийские влияния, а вот вопросы об ареалах различных братств, степени и формах их взаимодействия и воздействия на народные верования еще не выяснены. Иначе говоря, в науке пока нет полного и аргументированного ответа на вопрос о наличии в Туркестане этнических вариантов ислама. Эта констатация вызывает сожаление; но она внушает надежду на то, что будут предприняты новые изыскания.
Помимо академического истолкования многих проблем современной жизни региона существует еще и мнение самих туркестан-цев. Обычно этнографы, ознакомившись с ним, делают его основой собственной интерпретации действительности, «шлифуя» и редуцируя «противоречивые» или «нелепые» утверждения. При изучении самосознания таджиков и, соответственно, структуры их этнической иерархии у меня была возможность продемонстрировать целесообразность, и даже необходимость различения «научной» и «народной» точек зрения, нежелательность их непременного совмещения 20. Еще уместнее подобный подход при рассмотрении религиозности оседлых туркестанцев.
Какова же эта «народная» точка зрения на существование «своей» религии? Насколько каждый этнос Туркестана осознает себя конфессиональным целым? Каковы его представления о религии и обрядах соседних народов? На все эти вопросы ответы лежат в самосознании туркестанцев. Нелепо было бы утверждать, что таджики, узбеки или уйгуры не знают, что вокруг них тоже живут мусульмане. Вместе с тем практическое, а не теоретическое знание о конкретных формах соседских верований у них, как правило, минимально и весьма приблизительно. Даже не этнос, а каждая этнографическая группа внутри него, реально знает только «свой», «местный» вариант ислама. Этот факт известен всем этнографам. Межэтническое взаимодействие в религиозно-бытовой, прежде всего в семейно-обрядовой сфере обычно невелико, а то и вовсе отсутствует, особенно в сельской местности. Но и в городах оно чаще бывает исключением, чем правилом. К тому же ситуации совместного празднования или совершения религиозных обрядов разными этническими группами, которые, безусловно, имели место, описаны недостаточно. Таким образом, аргументация в пользу гипотезы о каждом туркестанском народе как «большой» этноконфессиональной группе невозможна без обращения к анализу их самосознания.
Структура самосознания оседлых туркестанцев представляет собой сложную, многоуровневую иерархию 21. В литературе это самосознание обычно называют «этническим», но это определение условно. Напомню, что низшие уровни иерархии, этнографические группы, — это, хотя и сильно этнизированные, но локальные варианты историко-культурных общностей. Они могли быть созданы и этнически однородным, и полиэтничным населением. Средний же уровень иерархии самосознания туркестанцев обычно отражает идентификацию собственно этноса (таджики, узбеки, уйгуры); однако в начале XX века, до установления советской власти и проведенных ею административно-территориальных реформ, он был неактуален для населения, присутствовал лишь на периферии сознания. Популярны были «локальные имена» по городу или оазису 22. Наконец, верхний уровень , венчающий всю иерархию, — это принадлежность к исламу. «Мусульманин» — общее самоназвание всех туркестанцев. На мой взгляд, оно несет заметный этнический смысл, ибо население вкладывает в него не просто идею принадлежности к исламской умме (воображаемому сообществу), но еще учитывает и конкретику обстоятельств — принадлежность к мусульманам определенного государства или историко-культурного ареала.
Для традиционного, обладающего рядом специфических архаических черт общества типично игнорирование абстрактного; напротив, ему свойственно конкретное восприятие пространства, времени, социально-культурной ситуации 23. Поэтому родовое понятие «мусульманин» по логике традиционного мышления непременно требует локального уточнения — «мусульманин-бухарец», «мусуль-манин-хотанец» и пр. Если для русских «мусульманин» — чисто конфессиональное обозначение, то туркестанцы привыкли пользоваться многоуровневым определением (причем иерархические уровни их самосознания могли меняться местами в зависимости от конкретных условий самоопределения). Возможно, именно поэтому до начала XX века, как установлено этнографами, самоопределение «таджик», «узбек», или «уйгур» не было столь актуальным, как позднее, а основным было самоопределение «бухарец», «хотанец», «ферганец», «кашгарец» и т. п. Все эти самоназвания отражали принадлежность к этнизированным локальным историко-культурным общностям, группам оседлых туркестанцев и, безусловно, включали указание на религиозную принадлежность, то есть подразумевали, что речь идет о «мусульманине из Бухары», «мусульманине из Хота-на» и т. д. Понятие «мусульманин» превращалось, таким образом, в этнизированный конфессионим, каждый уровень самосознания оседлых туркестанцев включал информацию и об этнической, и о локально-культурной, и о конфессиональной принадлежностях человека.
В целом самосознание туркестанцев, сложившееся в XIX — начале XX века, было не просто суммой разноплановых самоопределений, а содержательным сплавом, синтезом этнического, конфессионального и локально-культурного самоопределения. Такое самосознание и называется этноконфессиональным . На его фоне характерно отсутствие у рядовых мусульман Туркестана осознанного и развернутого собственно конфессионального самоопределения.
И последнее замечание. Преобладание этноконфессионального самосознания у народов Туркестана не случайно, поскольку основные этапы их этнической и культурной истории как раз и соотносятся с изменениями в массовой религиозной ориентации. Конечно, этот тезис требует детального обоснования; чтобы его получить, надо провести специальное исследование. Поэтому здесь я ограничусь лишь одним характерным примером из истории уйгуров.
В период X–XV веков в ходе постепенной исламизации предков современных уйгуров в Восточном Туркестане образовалось два ареала: на северо-востоке страны, в районе Турфана, жили уйгуры-буддисты, в остальных оазисах преобладали мусульмане. Они-то и составляли все увеличивающееся большинство, которое называло себя уже не уйгурами, а «туркестанцами», «хотанцами», «яркендцами», «кашгарцами» и т. п. Иными словами, мусульмане сменили свой старый этноним, поскольку и у них, и у турфанцев, и у окружающих народов он непосредственно ассоциировался с этноконфес-сиональной группой уйгуров-буддистов. С XV века, когда буддизм полностью утратил былые позиции в регионе и все предки современных уйгуров стали мусульманами, они постепенно прониклись осознанием своего этнокультурного и конфессионального единства, что определялось немалым числом причин, включая и политические.
На протяжении всего XX века уйгуры уже явственно определяли себя в качестве единой этноконфессиональной общности.
Аналогичные процессы протекали и в Средней Азии, но этот вопрос, как отмечалось, требует специального рассмотрения.
Список литературы Этноконфессиональное сознание у народов Туркестана (размышления, навеянные работами Л. И. Шерстовой и Ю. М. Кобищанова)
- Генисаретский О. И. и др. Этничность и диаспоральность. Материалы «круглого стола»//Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. М., 1997. Вып. 3. С. 25;
- Генисаретский О. И. Этнокультурная идентичность во всех возможных мирах//Россия и Европа. Опыт соборного анализа. М., 1992. С. 398-409.
- Шерстова Л. И. Этноконфессиональная общность. К проблеме эволюции субэтносов//Расы и народы. М., 1991. Вып. 21. С. 29-45.
- Пучков П. И. Этноконфессиональная общность//Свод этнографических понятий и терминов. Этнические и этносоциальные категории. М., 1995. Вып. 6;
- Этнос и религия. М., 1998
- Фактор этноконфессиональной самобытности в постсоветском обществе. М., 1998.
- Кобищанов Ю. М. Этноконфессиональные группы в процесс национальной интеграции//Ислам и проблемы межцивилизационных взаимодействий. М., 1994. С. 162-180;
- Кобищанов Ю. М. Этноконфессиональные группы во всемирной истории//Вопросы истории, 1999, № 9.
- Чвырь Л. А. Культурные ареалы и этнонимы//Миф. София, 2001. №7. С. 309-323.
- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Этническая история китайцев на рубеже Средневековья и Нового времени. М., 1987. С. 148-151.
- Haneda A. Introduction//Acta asiatica. Tokyo, 1978. Vol. 34. P. 14-18;
- Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000. С. 219-222;
- Мукминов А. К. Центральная Азия//Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. М., 1998. Вып.1. С. 103-104.
- Постановке этой проблемы посвящена статья: Чвырь Л. А. Ислам и домусульманские верования в Туркестане: синтез или симбиоз?//Центральноазиатский культурный комплекс. Алматы (в печати).
- Чвырь Л. А. О структуре таджикского этноса (научная и народная точки зрения)//Расы и народы. М., 2001. Вып. 27. С. 9-21.
- Чвырь Л. А. Заметки об этническом самосознании уйгуров//Этнографическое обозрение, 1994. №3. С. 31-40; Чвырь Л. А. О структуре таджикского этноса… С. 20-21.
- Шоберлайн-Энгел Д. Перспективы становления национального самосознания узбеков//Восток, 1997. № 3;
- Абашин С. Н. Миндонцы в XVIII-XX вв. История меняющегося сознания//Расы и народы. М., 2001. Вып. 27. С. 22-54.
- Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974.