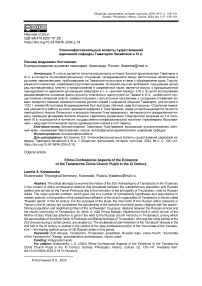Этноконфессиональные аспекты существования церковной кафедры Таматархи Зихийской в XI в
Автор: Костаненко Л.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье делается попытка рассмотреть историю Зихской архиепископии Таматархи в XI в. в контексте этноконфессиональных отношений, складывавшихся между автохтонным населением и русскими переселенцами, прибывавшими на Таманский полуостров в связи с образованием здесь Тьмутараканского княжества, управляемого русскими князьями. Основной научной проблемой, породившей целый ряд противоречивых гипотез и предположений в современной науке, является вопрос о юрисдикционной принадлежности церковной организации Таматархи в т. н. «русский период» в XI в. В целях исследования рассматриваются основные факты русского этнического присутствия на Тамани в XI в.: особенности осуществления княжеской власти; взаимоотношения с автохтонным населением и соседними племенами северо-западного Кавказа; взаимоотношения русских князей с церковной общиной Таматархи, для которой в 1022 г. князем Мстиславом Владимировичем был выстроен обетный храм Богородицы. Отдельное внимание уделяется в работе русской церковной иерархии в Тьмутаракани, среди которой выделяются личности преподобного Никона Печерского и епископа Николая Тьмутараканского, являвшегося в определённый период правящим архиереем Зихской епархии. Церковное управление Таматархской епархией во 2-й половине XI в. исследуется в контексте государственно-конфессиональной политики «триумвирата Ярославичей» - ведущей политической группы древнерусских князей в этот период.
Зихская епархия, Таматарха, Тьмутаракань, юрисдикция, русское княжение, обет-ный храм, «триумвират Ярославичей», касоги, автокефальная архиепископия, церковная кафедра
Короткий адрес: https://sciup.org/149145337
IDR: 149145337 | УДК: 94(470.620)“10”:28 | DOI: 10.24158/fik.2024.2.18
Текст научной статьи Этноконфессиональные аспекты существования церковной кафедры Таматархи Зихийской в XI в
Введение . После окончательного упадка и исчезновения существовавшей с VI в. древнейшей на Таманском полуострове Фанагорийской епископии центр церковного управления северозападным Кавказом переместился в расположенную поблизости Таматарху. Наиболее раннее упоминание епископии в Таматархе относится к последней четверти IX в., когда в актах Константинопольского собора 879 г. упомянут епископ Βαανης των Μαστραβον, что может быть прочитано: «<...> как испорченное των Ματραχων» (Мошин, 1932: 52).
Таматарха, но уже в ранге архиепископии, упомянута в Уставе императора Льва Философа (876–911) «О чине митрополичьих церквей, подлежащих патриарху Константинопольскому», где она стоит на 39 месте (Чхаидзе, 2008: 293). По мысли В.А. Мошина, данное обстоятельство могло косвенно подтверждать «зихскую» принадлежность города (Мошин, 1932: 52). В Notitia Episcopatuum , составленных в течение Х в., Таматарха окончательно сменяет Никопсию Зихийскую в составе «зихийского» диоцеза, занимая следующие после «зихийских» кафедр Херсонеса и Боспора 44, 45, 50 или 53 места, что, по-видимому, служило отражением последней попытки «<…> реставрации древней церковно-административной организации, объединявшей наиболее авторитетные кафедры…» (Гадло, 1991: 105).
В XI в. Зихийская кафедра Таматархи попадет под протекторат русских князей, управлявших основанным в конце Х в. Тьмутараканским княжеством. Незадолго до этого, в 988 г., после крещения киевского князя Владимира в Херсонесе и последующем обращении в христианство целого Древнерусского государства в Киеве, была основана Русская митрополия Константинопольского патриархата. На этом основании в исторической литературе появилось мнение о том, что автокефальная епархия Таматархи: «<…> вошла <…> в число первых епархий новорождённой Русской Церкви…» (Карташёв, 2007: 55). Данное предположение вошло в образовательный курс по истории Русской Церкви, рекомендуемый в российских светских и церковных высших учебных заведениях1.
Подобный поверхностный взгляд на этноконфессиональную историю Тьмутараканского княжества приводит некоторых исследователей к выводу о принципиальном отличии духовной жизни русского населения от туземного, «<…> которое опекал архиерей, присланный из Византии» (Кабанец, 2005: 126).
В связи с этим отдельной проблемой становится вопрос о церковной юрисдикции Тама-тархи в период существования здесь в XI в. русского княжения.
Русское княжение на Тамани . В настоящее время общепризнанным является представление о том, что к моменту появления на Таманском полуострове русской государственной власти, в конце Х в., основным населением в данной местности являлись потомки представителей салтово-маяцкой культуры. Именно они дали возрождённому в VI в. античному полису Гермона-сса новое тюркское имя – Тумен-тархан, в русском языке превратившееся в более понятное славянскому уху «Тьмутаракань» (Калинина, Флёров, Петрухин, 2014: 75).
Впервые в русских источниках Тьмутаракань упоминается под 988 г., в связи с выделением её в особый удел сыну князя Владимира – Мстиславу 2. Этому событию предшествовали победоносные походы князя Святослава Игоревича в 965 г. на хазар и «корсунский поход» 987–989 гг. князя Владимира Святославича. К концу Х в. относятся следы многочисленных пожарищ, выявляемых повсеместно на территории Тьмутараканского городища (Чхаидзе, 2012: 259).
В начале XI в., при жизни князя Владимира, его сыновья в своих уделах лишь представляли Киевскую власть, исполняя функции наместников. Однако после его смерти в 1015 г. большинство из них претендует на суверенитет над своими землями. В качестве суверенного правителя Тьмутаракани Мстислав ведёт активную борьбу за укрепление своего княжества. Вполне вероятно, что активизация участия русских дружин в военных конфликтах 920–930 гг. на Северном Кавказе и в Закавказье, где в это время Византия вела войну с абхазскими царями (Аргун, 2021: 25), связана с внешнеполитической деятельностью Тьмутараканского князя (Пашуто,1968: 77; 104).
К 1022 г. летопись относит поединок Мстислава с касожским князем Редедей: «<…> когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: “Чего ради погубим дружины? Но сойдемся, чтобы побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства мои, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все”. И сказал Мстислав: “Да будет так”. И сказал Редедя Мстиславу: “Не оружием будем биться, но борьбою”. И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: “О, пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое”. И, сказав так, бросил его на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю.
И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на касогов. И, придя в Тмутаракань, заложил церковь святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тмутаракани» 1.
Этот эпизод, впечатливший современников своим драматическим величием, вошедший не только в летопись, но и запечатлённый в «Слове о полку Игореве», отражает проблемы, связанные с существованием русского княжения в полиэтнической среде. Вместе с тюрко-хазарским населением Тьмутаракани в X – XI вв. касоги, являвшиеся частью огромной адыго-абхазской общности Кавказа, представляли собой значительный этнокультурный и политический фактор, с которым приходилось взаимодействовать русскому населению Тьмутаракани (Гадло, 2004: 256–261).
Тем не менее события, связанные с поединком Мстислава и Редеди, не стоит представлять как крупный этнополитический конфликт, результатом которого могло бы стать подчинение русским князьям сколько-либо значительной части территории Северо-Западного Кавказа: «<…> речь идёт <…> о кратковременном подчинении правителями Тьмутаракани небольшой группы предков адыгов…» (Чхаидзе, 2006: 146).
Говоря об этническом составе населения, подчинённого на Таманском полуострове власти русских князей в конце Х – XI вв., «<…> следует отказаться от утверждения о славянской колонизации <…> и исходить из факта незначительного присутствия славянского этнического компонента» (Чхаидзе, 2012: 256). Подавляющее большинство археологических находок, относящихся к данному периоду на этой территории, включая обширный комплекс византийского сфрагисти-ческого и нумизматического материала, имеет иное происхождение: «<…> славянские артефакты “тонут” в этом массиве» (Чхаидзе, 2012: 256).
Территория Тьмутараканского княжения не выходила за пределы современного Таманского полуострова, при этом ни один из источников не называет Тьмутаракань «княжеством», но или «градом», или «островом», т. к. в древности Таманский полуостров, находившийся в дельте р. Кубань, разделялся на пять-шесть островов, разделённых лиманами и протоками (Чхаидзе, 2012: 253).
При этом, находясь далеко за пределами Древнерусского государства, отделённая от него широким пространством Дикого Поля условная территория владений Тьмутараканских князей «<…> не могла быть в достаточной степени “окняжена”» (Котляр, 2001: 193). Традиционные для Древней Руси системы сбора, суда и княжеской администрации здесь отсутствовали (Котляр, 2001: 193).
Храм Пресвятой Богородицы . Интересной представляется судьба церкви, построенной Мстиславом Владимировичем по обету Богородице перед битвой с Редедей. В 1955 г. на Таманском городище специалистами Института археологии АН СССР под руководством академика Б.А. Рыбакова были обнаружены остатки средневекового христианского храма, отнесённого рядом исследователей (Б.А. Рыбаков, П.А. Раппопорт, Т.И. Макарова, Э.Р. Устаева и др.) к 1022 г., что подразумевало бы его строительство князем Мстиславом. В связи с этим возникла концепция, согласно которой вновь открытый Тьмутараканский храм должен был заполнить собой хронологическую лакуну между постройками князя Владимира Святославича в Киеве и заложенным в середине XI в. князем Мстиславом Владимировичем Спасским собором в Чернигове: «<…> тьмутараканская церковь должна была стать одним из ключевых звеньев в истории начального периода древнерусского зодчества» (Чхаидзе, Виноградов, Ёлшин, 2017: 279).
В настоящее время атрибуция данного храма как церкви Богородицы, построенной Мстиславом Владимировичем в 1022 г., остаётся приоритетной. Тем не менее новейшие исследования его архитектуры, основанные на публикации и полноценном изучении введенных в научный оборот материалов экспедиции Б.А. Рыбакова, вынуждают заключить, что «<…> типология и строительная техника данного храма не укладываются в традиции, характерные для начальной истории древнерусского зодчества» (Чхаидзе, Виноградов, Ёлшин, 2017: 279).
Вероятно, что именно этот храм, носивший характерные черты провинциальной византийской архитектуры Причерноморья, был известен в Тамани как «армянская церковь» ещё в конце XVIII в. (Чхаидзе, Виноградов, Ёлшин, 2017: 279).
Построенный Мстиславом Тьмутараканский храм мог служить кафедральным собором Та-матархи, в конце IX в., преобразованную в автокефальную архиепископию Зихии, которая распространяла свою юрисдикцию на известные под именем зихов абхазо-адыгские племена Северо-Западного Кавказа.
Русский клир Таматархи в XI в. Автокефальный (самоуправляемый) статус кафедры архиерейской Таматархи, а также её удалённость от основных центров Древней Руси, мог служить определённой гарантией для клириков Русской митрополии, искавших покровительства незави- симой от переменчивых политических амбиций русских князей церковной власти. Особое положение провинциальной Зихской епархии способствовало существованию в церковной среде открытой оппозиции Киеву.
Именно в таком контексте следует рассматривать отражённую в агиографической литературе (Киево-Печерский Патерик, Житие преподобного Феодосия Печерского) деятельность преподобного Никона – игумена Киево-Печерского монастыря, деятельность которого непосредственно связана с перипетиями древнерусской политики.
После смерти Мстислава и Евстафия Чернигов и Тьмутаракань вернулись под управление киевского князя Ярослава Мудрого. В период его правления в Киеве был выстроен великолепный Софийский собор, в оформлении которого, возможно, участвовали выходцы из областей, подчинённых или граничивших с Тьмутараканью. Население этих территорий, безусловно, находилось в сфере культурного влияния Тьмутаракани. Известно граффито, нанесённое, наряду с другими на фреску «Онуфрий» в Киевском Софийском соборе: «Дедилец-касог, тмутаракан[ец писал], идя от святых. Ибо я, господи, чаю прийти к тебе на воскрешение. Ох, душа моя!» (Зализняк, 2004: 256– 257). Данная надпись, датируемая кон. XI – нач. XII вв., является вторым известным эпиграфическим упоминанием Тьмутаракани после надписи князя Глеба (Чхаидзе, Дружинина, 2005: 155).
После смерти Ярослава в 1054 г. Русское государство было разделено между его наследниками. Сложившаяся при этом система управления территорией Руси получила название «триумвират Ярославичей» (Греков, 1953: 490). Власть над важнейшими областями русских земель получили трое из старших сыновей Ярослава: Изяслав – в Киеве, Святослав – в Чернигове, Всеволод – в Переялавле. Тьмутаракань, «закреплённая» за Черниговскими князьями со времени правления Мстислава Владимировича, была отдана в управление старшему сыну Святослава Ярославича – Глебу (+ 1078). Однако в 1064 г. лишённый, согласно бытовавшему на Руси лествичному праву (Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013: 152–159), перспективы наследовать киевский престол, единственный сын старшего из наследников Ярослава мудрого – Владимира Ярославича Новгородского, князь-изгой Ростислав Владимирович захватил Тьмутаракань и изгнал оттуда Глеба Святославича.
Незадолго до этого, в 1061 г. (Приселков, 1911: 188–201), после конфликта с киевским князем Изяславом Ярославичем, причиной которого могла стать попытка вмешательства князя в сферу церковного управления, в частности, касающуюся устроения монашеской жизни, преподобный Никон был вынужден оставить Киево-Печерскую обитель: «<…> отъиде въ островь Тьмутаракан-ский, и ту обрете место чисто близ града и седе. И Божiею благодатью възрасте место то, и церьковь святыа Богородици възгради на немь; и бысть монастырь славенъ, иже и доныне есть, прикладъ же имый в сей Печерьскый монастырь» (Патерик…, 1911: 26).
Таким образом, период краткого правления Ростислава Владимировича (1064–1065) пришёлся на пребывание в Тьмутаракани преп. Никона, деятельность которого в данный период была связана с устроением здесь монашеской обители, ставшей подворьем (прикладом) КиевоПечерского монастыря. Благословляя строительство русского монастыря на своей канонической территории, местный архиепископ подчёркивал полиэтничный характер Таматархи, как это и было свойственно имперскому сознанию византийцев, основа этнической самоидентификации которых выражалась в приверженности Православию. Кроме того, строительство русской обители придавало дополнительный импульс межэтническим интеграционным процессам, в чем, в первую очередь, должны были быть заинтересованы русские князья Тьмутаракани.
Следы средневековой монашеской обители были обнаружены летом 2005 г. в 6 км к юго-западу от станицы Тамань, когда новороссийскими археологами на вершине горы Зеленской было выявлено существовавшее здесь средневековое поселение, предварительно датированное концом X–XI вв. Значительную часть находок представляют предметы, носящие христианскую символику или предназначавшиеся для церковного обихода, что позволило предположить, что в данном месте располагался православный монастырь (Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013: 152–159).
Проблема поставления русского архиерея на кафедру Таматархи . В 1065 г. князь Ростислав, сильная и самостоятельная политика которого вызывала опасения в Константинополе, был убит византийцами и погребён в приделе кафедрального собора Тьмутаракани1. Возможно, в сговоре с византийцами выступал черниговский князь Святослав, заступаясь за права своего сына. Тогда же преп. Никон был избран горожанами парламентарием для переговоров с ним, с просьбой вернуть в Тьмутаракань Глеба Святославича (Патерик…, 1911: 32).
Вскоре черниговский князь Святослав заменил Глеба в Тьмутаракани другим своим сыном – Романом. Вероятно, что именно на время княжения Романа Святославича в Тьмутаракани приходится поставление на Зихскую кафедру Таматархи выходца из Киево-Печерского монастыря, епископа Николая, данные о котором содержит Печерский патерик (Гадло, 1991: 10). Известна печать, датируемая 2-й пол. XI в., принадлежавшая архиепископу Зихии: «<…> Τον Ζιχιας προεδρον Αχραωτε σκεπ[οις]» (Laurent, 1972: 167). Ввиду того, что епископ Николай являлся правящим архиереем Зих-ской архиепископии, нельзя исключать возможность того, что данная печать могла принадлежать и самому Николаю Тьмутараканскому (Кабанец, 2005: 126).
Датировка поставления русского епископа Николая на Таматархскую кафедру коррелирует по времени с тенденциями, наблюдавшимися в отношениях «триумвиров» – Святослава и Всеволода Ярославичей с церковной властью: как с киевской митрополичьей кафедрой, так и с Константинополем.
События, связанные с кризисом политики киевского князя Изяслава Ярославича, стали причиной разделения Русской митрополии на три части и появления самостоятельных митрополий в Чернигове и Переяславле в 1069–1070 гг.: «<…> такое расчленение случилось в ситуации, когда и Константинополь, и Киев (в лице Изяслава Ярославича) были недостаточно сильны, чтобы воспротивиться давлению» (Назаренко, 2007: 102).
Логично предположить, что, поставляя отдельного митрополита в Чернигове (первый и единственный известный – Неофит Черниговский), Святослав Ярославич мог способствовать занятию «овдовевшей» в этот момент кафедры Таматархи русским ставленником. Данное событие могло произойти как в период, когда Святослав Ярославич ещё оставался черниговским князем, так и тогда, когда он в 1073 г. занял Киев. Возвращение в Тмутаракань в том же году преп. Никона могло быть непосредственно связано с этой миссией.
При этом упоминание епископа Николая среди лиц, присутствовавших в 1078 г. в КиевоПечерской Лавре (Патерик…, 1911: 91), не следует воспринимать как имеющее исключительно «ретроспективный характер» (Кабанец, 2005: 110). Выражение киевского агиографа: «иже бысть епископъ Тьмутаракань» вполне может отражать и реально существовавшее на этот момент status quo .
Выводы . Подобно тому, как: «<…> немыслимо предположить, чтобы рядом с Матархской греческой архиепископией в том же городе была учреждена и русская епископия, подчинённая Киевскому митрополиту, который сам в X – XI вв. был греческим митрополитом…» (Мошин, 1932: 55), недоразумением является предположение о том, что русский епископ Таматархи мог быть подчинён Черниговскому митрополиту (Кабанец, 2005: 126).
Аналогичным заблуждением следует считать мнение, что русское население Тьмутаракани, среди которого известны редкие представители духовного звания, «<…> подчинялись не местному епископу, а епархиальному руководству того региона, где получили своё поставление» (Кабанец, 2005: 114). Очевидно, что русское население Таматархи, в число которого входили и русские клирики, было органично включено в систему местного церковного управления.
Таким образом, впервые появившись в Северо-Восточном Причерноморье в кон. X – нач. XI вв., русское население в течение XI столетия было интегрировано в уже существовавший здесь сложный полиэтничный социум, став органичной частью древней Таматархской церковной общины, управляемой поставляемым из Константинополя независимым от Русской митрополии иерархом.
Список литературы Этноконфессиональные аспекты существования церковной кафедры Таматархи Зихийской в XI в
- Аргун А.В. Летопись Абхазских царей. Новый Афон, 2021. 56 с.
- Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии, как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья // Из истории Византии и византиноведения. Л., 1991. С. 93–106.
- Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 2004. 358 c.
- Гадло А.В. Тмутараканские этюды V (Олег Святославович) // Вестник Ленинградского университета. Серия 2: История, языкознание, литературоведение. Т. 2, № 9. 1991. С. 3–15.
- Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 568 c.
- Зализняк А.А. К изучению древнерусских надписей // В.Л. Янин., А.А. Зализняк, А.А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте: из раскопок 1997–2000 гг. М., 2004. Т. XI. С. 233–286.
- Кабанец Е.П. К вопросу о роли Тьмутараканской епархии в церковной истории Древней Руси конца XI в. // Сугдейский сборник: мат. международ. конф. «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре». Киев; Судак. 2005. Вып. 2. С. 105–130.
- Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В. Я. Хазария в кросскультурном пространстве: историческая география, крепостная архитектура, выбор веры. М., 2014. 187 с.
- Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. Т. 1. Православная церковь в России. М., 1993. 685 с.
- Котляр Н.Ф. Тмутороканские заботы киевских князей // Норна у источника судьбы: сборник статей в честь Елены Александровны Мельниковой. М., 2001. С. 191–197.
- Мошин B.А. Николай, епископ Тмутороканский // Seminarium Kondakovianum. Praha, 1932. Вып. 5. С. 47–62.
- Патерик Киевскаго Печерскаго монастыря / под ред. Д. И. Абрамовича. СПб., 1911. 275 с.
- Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 472 c.
- Приселков М.Д. Митрополит Иларион, в схиме Никон, как борец за независимую русскую церковь // Сборник статей, посвященных С.Ф. Платонову. СПб., 1911. С. 188–201.
- Чхаидзе В.Н. Дружинина И.А. Граффити из Софии Киевской – свидетельство христианизации касогов в конце XI – начале XII вв. // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа: cборник статей. Армавир, 2005. Вып 5. С. 155–158.
- Чхаидзе В.Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове. М., 2008. 326 c.
- Чхаидзе В.Н. Тмутаракань – владение Древнерусского государства в 80-е гг. X – 90-е гг. XI в. // Сугдейский сборник: мат. V Судацкой международ. науч. конф. «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре». Судак, 2012. Вып. 5. С. 251–270.
- Чхаидзе В.Н. Тьмутаракань (80-е гг. Х в. – 90-е гг. XI в.). Очерки историографии // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. 2006. № 6. С. 139–174.
- Чхаидзе В.Н., Виноградов А.Ю., Ёлшин Д.Д. Средневековый храм на Таманском городище и его архитектурный кон-текст // Монументальное зодчество Древней Руси и Восточной Европы эпохи Средневековья: труды Государственного Эрмитажа. СПб. 2017. Т. 86. С. 257–285.
- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В. Христианский монастырь XI в. на Тамани // III «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа: мат. международ. археологиче-ской конф. Краснодар. 2013. Т. 3. C. 152–159.
- Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. Vol. V. L’Eglise. Paris, 1972. 343 p. = Лоран В. Корпус печатей Византийской империи. Т. V. Церковь. Париж, 1972. 343 с. (на фр. яз.).