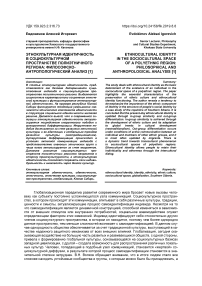Этнокультурная идентичность в социокультурном пространстве полиэтничного региона: философско- антропологический анализ
Автор: Евдокимов Алексей Игоревич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье этнокультурная идентичность представляется как базовая детерминанта существования индивида в социокультурном пространстве полиэтничного региона. Выделяются сущностные характеристики сохранения этнической культуры и функционирования этнокультурной идентичности. На примере республик Южной Сибири фиксируется тенденция уменьшения значимости этнического компонента идентичности в структуре социальной идентичности жителей региона. Делается вывод, что в современной ситуации этнокультурная идентичность актуализируется посредством ингруппового подобия и аутгрупповой дифференциации. Ингрупповое подобие достигается за счет развития этнической культуры и ее адаптации к глобальным трендам развития культуры (неотрадиционализм). Аутгрупповая дифференциация происходит в условиях активной коммуникации индивида с представителями инаковых этнических групп и чаще всего активизируется за счет мигрантов. Динамика развития социокультурных пространств полиэтничных регионов направлена в сторону транскультурности, а этнокультурная идентичность позволяет сохранять свои индивидуальность и инаковость через диалог культур.
Этнокультурная идентичность, идентичность, этничность, этническая культура, социокультурное пространство, глобализация, южная сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/149134041
IDR: 149134041 | УДК: 159.923.2:316.73 | DOI: 10.24158/fik.2019.8.8
Текст научной статьи Этнокультурная идентичность в социокультурном пространстве полиэтничного региона: философско- антропологический анализ
Глобализационная парадигма развития современного мира бросает новые вызовы человеку как субъекту постоянно усложняющегося узла коммуникаций. Социокультурное пространство, в котором происходят эти коммуникации, впитывает в себя различные культуры, традиции, ценности и смыслы, актуализирующие процесс самоидентификации индивида. Несмотря на то что самоидентификация является динамичной конструкцией, способной изменяться в зависимости от внешних стимулов или внутренних потребностей, социальное взаимодействие служит определяющим фактором этих изменений. Индивид идентифицирует себя относительно других членов социокультурного пространства, в котором он находится, поэтому чем более однородно данное пространство, тем меньше сложностей возникает с самоидентификацией. В данном случае однородность общества обеспечивается за счет традиционной культуры, выступающей в качестве надежного защитного механизма от всех внешних влияний. Глобализация, сегодня оказывающая воздействие на большую часть развитых и развивающихся обществ, с одной стороны, привела к формированию глобальной культуры, основывающейся на социокультурных базисах западной цивилизации, с другой – создала возможность для распространения различных локальных культур. Человек, попадающий в подобный узел коммуникаций, становится «жертвой» социокультурной диффузии, в результате которой процесс самоидентификации становится в значительной степени затруднен. В.Н. Волков обращает внимание, что в итоге людям стало все сложнее находить устойчивые сообщества и группы, к которым можно было бы принадлежать, а получить ответ на вопрос «Кто “я” и каково мое место в мире?» стало почти невозможно, да и сам вопрос потерял всякий смысл [2, с. 93-94].
Э. Гидденс связывает усложнение процесса самоидентификации с ослаблением роли социокультурных детерминант в современном обществе. В их качестве, например, выступают этнокультурные особенности, традиции и обычаи, которые исторически поддерживали устойчивость социальных ролей и статусов в рамках определенных общественных групп. Кризис традиционных ценностей и появление открытого массового рынка всевозможных прав и свобод заставляют человека «гораздо активнее, чем раньше, создавать и воспроизводить собственную идентичность» [3, с. 63]. Особая роль ценностной самоидентификации в социуме формируется под воздействием проблем воспроизводства и создания собственной идентичности, вызванных глобализацией, культурным универсализмом и аксиологической анархией. По мнению М.Н. Губогло, именно сфера культуры служит той лакмусовой бумажкой, на которой обнаруживаются взаимопроникновения и взаимовлияния ценностей и норм различных этнических групп. Он выделяет три компонента культуры, в которых это проявляется наиболее наглядно: ментифакты, социофакты и артефакты [4, с. 71]. Ментифакты связаны со сферой духовной культуры, а процессы взаимовлияния обнаруживаются в языке (через заимствования), фольклоре (сюжеты сказок, архетипы легенд и мифов), искусстве (технику и символизм изображения, распространение определенных стилей и жанров), религии (морально-этические нормы и законы, табу и запреты) и других феноменах духовной культуры. Социофакты характеризуются интерференцией социальных институтов, таких как семья и система образования, а также общественно-политических процессов и технологий. Наконец, артефакты - это продукты материальной культуры, посредством которых происходит межкультурное взаимодействие в различных сферах жизни общества (предметы быта, экономические блага).
Традиционно наиболее выразительно данные компоненты проявлялись в этнической культуре, которая и сегодня продолжает составлять одну из основ самоидентификации человека. Т.Г. Грушевицкая представляет этническую культуру в виде «культурного айсберга». Его верхушкой выступают внешние проявления культуры, связанные с ее материальной стороной и поведением носителей, формирующих культурно-этнические стереотипы. Главная часть айсберга этнической культуры скрыта под водой - это сфера мировоззрения, аксиологии, норм, традиций и обычаев, определяющих внутреннее содержание культуры [5, с. 138]. Межэтническое взаимодействие первоначально происходит на уровне верхушки айсберга, но по мере укрепления межкультурных связей начинает влиять и на внутренние процессы. В условиях, когда воздействие осуществляется слишком интенсивно, может произойти поглощение одной культуры другой или случиться эскалация этнокультурного конфликта. Это ведет к тому, что этничность становится не просто маркером внешних различий, а средством консолидации сообщества, «орудием политической борьбы за признание особых прав и получение дополнительных преференций внутри мультикультурного общества» [6, с. 37].
За примером можно обратиться к опыту полиэтничных регионов Южной Сибири: Алтаю, Туве и Хакасии. В каждой из республик у представителей титульных этносов в 1990-е гг. произошла активизация своей этнической идентичности, которая привела к получению особого статуса для территорий и широкого спектра возможностей для сохранения и развития этнической культуры в социокультурном пространстве Российской Федерации. В середине 2000-х гг. в стране начался процесс формирования российской гражданской идентичности, поэтому уже получившие преференции этнические группы постепенно стали менять ориентиры самоидентификации. Социологические исследования, проводимые в республиках Южной Сибири в середине 2010-х гг., фиксировали повышение значимости гражданской и регионально-территориальной (республиканской) идентичности, а также ослабление этнической идентичности (в основном у хакасов и тувинцев) [7]. Среди алтайского населения Республики Алтай еще сохраняется доминирование этнической идентичности в структуре социальной идентичности, но доля респондентов, которые указывают на значимость гражданской и особенно регионально-территориальной идентичности, стремительно увеличивается [8, с. 139]. Реакцией на подобные дрейфы идентичности в регионах со стороны этнической культуры стал этнокультурный неотрадиционализм, в частности его этнорелигиозная составляющая (буддизм - в Туве, тенгрианство - в Хакасии и на Алтае) [9].
В динамике современных общественных отношений «этничность» и «культура» становятся важнейшими регуляторами процессов трансформации идентичности, а среди всех форм социальной идентичности этнокультурную идентичность можно выделить как самую устойчивую. И.В. Малыгина определяет этнокультурную идентичность как «сложный социально-психологический феномен, содержание которого составляет как осознание индивидом общности с локальной группой на основе разделяемой культуры, так и осознание группой своего единства на тех же основаниях, психологическое переживание этой общности, а также индивидуальные и коллективные формы ее манифестации» [10, с. 96].
Российские исследователи задают различный философско-антропологический смысл феномену этнокультурной идентичности. В.Н. Муха в качестве основных функций этнокультурной идентичности выделяет этнодифференцирующую и этноинтегрирующую, которые обладают максимальной этнической нагрузкой, выполняя анализ сходств и различий между представителями разных этнических групп [11, с. 40]. И.А. Аполлонов и И.Д. Тарба в постмодернистском ключе связывают этнокультурную идентичность с «экзистенциальной потребностью обрести утраченное пространство подлинного существования» [12, с. 38]. Н.И. Алиев и З.Э. Абдулаева трактуют этнокультурную идентичность как результат диалектики субъективных и объективных факторов, под воздействием которых запускается процесс модернизации и трансформации цивилизационной, социокультурной и этнической системы [13, с. 129–130].
Этнокультурная идентичность для индивида, находящегося в полиэтничном социокультурном пространстве, выступает защитным клапаном базисных экзистенциалов и ценностей. В ситуации повседневности ее активизация не требуется и для человека более значимыми являются другие виды идентичности. Развертывание концепции национально-этнических автономий в 1990-е гг. и последовавшее за этим обострение межнациональных отношений во многих полиэтничных регионах страны продемонстрировали необходимость построения системы инкорпорирования этнических культур в общую гражданскую культуру. Таким образом, сегодня актуализация этнокультурной идентичности обычно наблюдается в случае каких-то социокультурных угроз со стороны других этнических групп.
В философской антропологии существуют оппозиционные категории «они» и «мы», которые являются важнейшим принципом существования этнокультурной идентичности. Через них актуализируются и удовлетворяются основные потребности индивида как члена этнокультурной группы, в первую очередь потребность в безопасности. В российских исследованиях выделяются два аспекта рассмотрения этнокультурной идентичности: с точки зрения ингруппового подобия и аутгрупповой дифференциации [14, с. 131]. Первое достигается, когда члены какой-либо общности воспринимают друг друга как «своих», т. е. с одинаковой социокультурной идентификацией. Вторая возникает, когда находится индивид, который отличается от общей группы, и ему приписывается характеристика «чужого». Ингрупповое подобие и аутгрупповая дифференциация имеют взаимообусловливающий характер: чем острее мы чувствуем общность внутри группы, тем больше отдаляемся от «чужих» групп. Таким образом, понятие «чужой» служит важным маркером создания и приписывания различий между этническими группами и фактором поддержания устойчивости этнокультурной идентичности. В современных условиях часто таким маркером становятся мигранты, особенно трудовые мигранты из-за рубежа. В последние годы наметилась тенденция адаптации этнокультурной идентичности жителей регионов к приезжим мигрантам, что отмечено нами ранее [15, с. 64]. Аккультурация мигрантов в социокультурное пространство принимающих регионов становится наиболее востребованным и эффективным методом снижения межэтнической напряженности и формирования этнокультурного баланса в полиэтничной среде взаимодействия [16].
Под воздействием интенсификации глобализационных процессов, кризиса национального государства и формирования глобальной гражданственности в работах современных исследователей возрастает популярность парадигмы постнациональной идентичности, которая отступает от традиционных идентификационных практик, связанных с «национальной» и «этнической» составляющими, позволяющими осуществлять поиск новых оснований для осознания себя в трансформирующемся социуме [17, с. 84]. В качестве таких оснований, например, рассматриваются урбанистические процессы, коррелирующие с формированием новых социокультурных пространств в крупных городах и мегаполисах. Мегаполис становится центром притяжения для людей различных этнической и национальной принадлежности, религии, профессии, возраста, но при этом в какой бы стране мира ни находился этот мегаполис (Токио, Нью-Йорк, Москва), он задает набор схожих ценностно-мировоззренческих ориентиров для всех индивидов, действующих в его пространстве.
В.П. Гриценко и А.В. Опошнянский указывают на значение синергетического эффекта в процессах распространения новых типов идентичностей в глобальных масштабах [18, с. 267]. Активизация миграционных процессов во второй половине XX в. привела к размыванию этнического состава населения в разных странах и повлекла за собой интенсификацию межкультурных контактов, часто носивших совершенно неуправляемый, стихийный характер. В итоге возникали конфликты идентичностей, разрешение которых самоорганизовывало новую социокультурную иерархию. В результате выстраивания последней формировалось транскультурное простран- ство. Среди его особенностей выделяются диалог культур, обеспечивающий условия для эффективного взаимодействия и безбарьерной коммуникации, и наличие точек бифуркации, выступающих необходимыми потенциями для модернизации системы сложившейся культуры, перехода к транскультуре [19, с. 109].
Транскультурная среда задает новые нарративы функционирования этнокультурной идентичности. Этничность прекращает являться основой самоидентификации индивида в обществе, а модернизирующаяся этническая культура становится связующим звеном между индивидом, социальными институтами и глобальным миром. Этнокультурная идентичность занимает позицию запасного парашюта, которым всегда можно воспользоваться в случае кризиса других видов идентичности. Это особенно важно для этнических групп, составляющих меньшую часть населения полиэтничных регионов и испытывающих давление со стороны как доминирующих этнических групп, так и приезжающих из-за рубежа трудовых мигрантов. Формирование социокультурного пространства на основе согласования этнокультурных идентичностей представляется наиболее эффективным способом снижения конфликтогенного потенциала региона и сохранения его культурного многообразия.
Ссылки и примечания:
Список литературы Этнокультурная идентичность в социокультурном пространстве полиэтничного региона: философско- антропологический анализ
- Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-013-00949 А «Культурно-этнические детерминанты самостоятельности - личностной беспомощности молодежи России и стран ближнего зарубежья (на материале мигрантов из Центральной Азии)»)
- Волков В.Н. Проблема идентичности в современном мире // Педагогическое образование и наука. 2013. № 6. С. 92-95
- Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация изменяет нашу жизнь / пер. с англ. М.Л. Коробочкина. М., 2004. 120 с
- Губогло М.Н. Идентификация идентичности: этносоциологические очерки. М., 2003. 765 с
- Грушевицкая Т.Г. Национальная и этнокультурная идентичность в современном обществе // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 12-2 (54). С. 137-139. DOI: 10.18454/IRJ.2016.54.008
- Аполлонов И.А., Тарба И.Д. Проблема оснований этнокультурной идентичности в контексте глобализации // Вопросы философии. 2017. № 8. С. 30-42
- Аксютин Ю.М. Влияние трансформации структуры идентичностей жителей регионов постсоветской России на характер межэтнических отношений (на примере Тувы, Хакасии, Алтая) [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы: электрон. науч. журн. 2016. № 2. С. 162-174. URL: http://nit.tuva.asia/nit/article/view/100 (дата обращения: 10.08.2019)
- Персидская О.А., Евдокимов А.И. Разные виды идентичности у этнических групп Сибири: опыт сопоставления выводов социологических исследований // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (72). С. 137-141
- Anzhiganova L., Asochakova V., Topoeva M. Ethno-Confessional Neotraditionalism in a Globalized World: Search for Basis of Identification // Revista de Humanidades (Spain). 2017. No. 30. P. 141-153.
- DOI: 10.5944/rdh.30.2017.18206
- Малыгина И.В. Этнокультурная идентичность (онтология, морфология, динамика): дис. … д-ра филос. наук. М., 2005. 305 с
- Муха В.Н. Этнокультурная идентичность в условиях диаспоры: конфессиональный, гражданский и региональный компонент // Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 40-42
- Аполлонов И.А., Тарба И.Д. Проблема оснований этнокультурной идентичности в контексте глобализации // Вопросы философии. 2017. № 8. С. 38.
- Алиев Н.И., Абдулаева З.Э. Этнокультурная идентичность как составляющая антропосоциальной реальности // Гуманитарий Юга России. 2016. Т. 20, № 4. С. 127-132
- Алиев Н.И., Абдулаева З.Э. Этнокультурная идентичность как составляющая антропосоциальной реальности // Гуманитарий Юга России. 2016. Т. 20, № 4. С. 131.
- Евдокимов А.И. Анализ восприятия трудовых мигрантов из-за рубежа жителями республик Южной Сибири на современном этапе // Теория и практика общественного развития. 2018. № 12 (130). С. 61-65.
- DOI: 10.24158/tipor.2018.12.9
- Berry J.W. Immigration, Acculturation, and Adaptation // Applied Psychology. 1997. Vol. 46, iss. 1. P. 5-34. x
- DOI: 10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087
- Линченко А.А., Сыров В.Н., Головашина О.В. Проблема постнациональной идентичности: к историографии вопроса // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 79-85.
- DOI: 10.17223/15617793/419/10
- Гриценко В.П., Опошнянский А.В. Глобализационный тренд и этнокультурная идентичность // Общество и право. 2017. № 2 (60). С. 265-269
- Фомина М.Н., Борисенко О.А. Размышление о транскультурном пространстве как рефлексии глобализирующейся культуры // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 1 (5). С. 105-113.
- DOI: 10.24833/2541-8831-2018-1-5-105-113