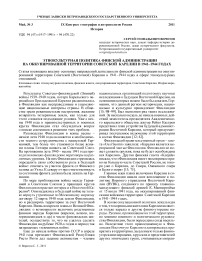Этнокультурная политика финской администрации на оккупированной территории советской Карелии в 1941-1944 годах
Автор: Веригин Сергей Геннадьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (116), 2011 года.
Бесплатный доступ
Этнокультурная политика, финские власти, оккупированная территория, советская карелия, вторая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/14749885
IDR: 14749885
Текст статьи Этнокультурная политика финской администрации на оккупированной территории советской Карелии в 1941-1944 годах
Результаты Советско-финляндской (Зимней) войны 1939–1940 годов, потеря Карельского перешейка и Приладожской Карелии расценивались в Финляндии как несправедливые и ущемляющие национальные интересы страны. В обществе зрели реваншистские настроения, желание возвратить потерянные земли, как только для этого сложатся подходящие условия. Уже с весны 1940 года в правительственных и военных кругах Финляндии стал обсуждаться вопрос о поиске союзников в решении этих проблем.
Руководство Финляндии в конце весны – начале лета 1940 года склоняется к необходимости тесного сотрудничества с нацистской Германией, тем более что становятся более ясными планы Гитлера напасть на Советский Союз. На протяжении лета 1940 – весны 1941 года проходили немецко-финляндские переговоры на различных уровнях. На них Финляндия стремилась определить свою собственную роль в будущей войне: отвечать за участок фронта от Финского залива до Ухты. К северу от нее ответственность за состояние фронта должна была лежать на Германии.
По мере приближения войны между Германией и Советским Союзом у правящих кругов Финляндии возрастает интерес и к Восточной Карелии * . Они надеялись в будущей войне не только вернуть утраченные по Московскому мирному договору 12 марта 1940 года земли Финляндии, но и расширить территорию за счет Восточной Карелии. Вновь воскресли планы о Великой Финляндии: о возможности включить родственные финнам народы Карелии (карелов, вепсов, ин-германландцев и др.) в число финляндских жителей, осуществить то, что не удалось сделать Финляндии на рубеже 1920-х годов в период так называемых «племенных войн».
Еще до начала войны против СССР в апреле 1941 года президент Финляндской Республики Ристо Рюти дал задание активистам – членам национальных организаций подготовить научные исследования о будущем Восточной Карелии, на основании которых можно было бы доказать Германии, что данный регион исторически, национально и культурно принадлежит Финляндии [15; 98–99]. Был выполнен ряд таких исследований. За несколько недель до начала военных действий заместитель председателя Академического карельского общества доктор Рейно Кастрен представил план устройства будущей администрации Восточной Карелии, который предусматривал постепенное включение этой территории в состав Финляндии [12; 42].
Финляндский правительственный орган – газета «Uusi Suomi» заявляла: «Карелия является неразрывной частью Финляндии. Финляндия не может сложить оружия, пока не будет освобождена вся Карелия». Другая финская газета «Karjala» писала, что «Финляндия имеет неоспоримое право на большую часть Советской России, не говоря уже о Карелии, до Свири, Онежского озера и Белого моря» [13; 75].
Главные идеи плана включения Карелии в состав Финляндии нашли свое воплощение в политике Военного управления Восточной Карелии (ВУВК), созданного по приказу главнокомандующего финской армией К. Маннергейма от 15 июля 1941 года, на оккупированной финскими войсками территории Советской Карелии в 1941–1944 годах.
В основе оккупационной политики лежала идея о том, что коренными жителями Карелии являются только карелы и другие финно-угорские народы. Русские, проживавшие на этой территории, по мнению военного и политического руководства Финляндии, были переселены сюда насильно. Вследствие этого присоединенную к Финляндии Восточную Карелию планировалось превратить в территорию, заселенную только финноугорскими народами, а русских и представителей других этнических групп, считавшихся мигран- тами, предполагали выселить из Карелии в захваченные немецкими войсками другие регионы Советского Союза.
В начальный период войны финским войскам удалось оккупировать две трети территории Советской Карелии. Однако гражданское население, оказавшееся на ней, было значительно меньшим, чем ожидали финны.
Регистрация оставшегося населения осуществлялась по мере продвижения финских войск вглубь территории республики и была закончена только в конце 1942 года. Но уже к концу 1941 года картина с оставшимися в регионе жителями стала достаточно ясна. На 21 декабря 1941 года, по данным финских исследователей, были зарегистрированы 86 119 человек, из которых родственных финнам – 35 919 [15; 100]. В большинстве своем это были женщины, старики и дети. В дальнейшем численность колебалась незначительно – в пределах нескольких тысяч за весь период оккупации. По оценке финского историка Х. Сеппяля, к концу оккупации в 1944 году численность населения составляла 83 385 человек, из них 47 % русских, 39 % карел [15; 103].
С самого начала оккупации ВУВК, исходя из утвержденных основ национальной политики на оккупированной территории, начинает собирать все русское население в определенных местах с задачей выселить его за пределы Карелии. С этой целью для русского населения стали создаваться концентрационные лагеря.
Составленная бюро по народонаселению статистика свидетельствует, что уже к концу 1941 года в концлагерях было около 20 тыс. человек, в подавляющем большинстве русских. Больше всего их было в апреле 1942 года (около 24 тыс. человек, или около 27 % всего населения, находившегося в зоне оккупации). Это довольно высокий процент с точки зрения международного права. К концу 1942 года численность заметно уменьшилась как из-за большой смертности в лагерях, так и из-за того, что часть людей освободили или отправили в трудовые лагеря. После этого на протяжении всех оставшихся месяцев оккупации численность колебалась между 15 000 и 18 000 человек, или составляла около 20 % всего попавшего в оккупацию населения [10; 101], [11; 43], [12; 100–101], [14; 288], [15; 103].
Все оставшееся на свободе население ВУВК разделило по национальному принципу на две основныегруппы: коренное, илипривилегирован-ное, население (карелы и другие финно-угорские народы) и некоренное, или непривилегированное, население (русские и другие не финно-угорские народы).
Местное финно-угорское население рассматривалось в качестве будущих граждан Великой Финляндии. Для реализации этой цели была развернута мощная этнокультурная просвети- тельная работа. Как отмечает финский историк А. Лайне, оккупационный режим стремился побудить карельский народ к феннофильству, сформировать в нем «знание об исторической задаче финского племени в его противодействии вековому стремлению России захватить Финляндию» [12; 102–103].
С первых дней оккупации финское военное командование специально выделило офицеров по культурной деятельности, чья задача состояла в просветительной и пропагандистской деятельности среди карельского и вепсского населения. В специальной инструкции им предписывалось: «1. Пробудить сочувствие к карельскому народу среди финских солдат, которые должны относиться к карелам не как к своим врагам, а как к своему родственному братскому народу. Убедить карелов, что финские войска пришли освобождать находящийся под гнетом русских карельский народ. 2. Доказать карельскому населению, что русские на карельской земле не в силах были построить крепкое устойчивое хозяйство. Разъяснить, что русские использовали средства не для развития карельского народного хозяйства, а для мировой революции. 3. Объяснить, что карельское население должно спокойно продолжать работу на прежних местах…» [1; 159–160].
В структуре ВУВК был создан 2-й отдел – Просвещения (Валистустоймисто), который ведал вопросами организации школьной сети, пропаганды и агитации, печати и религиозного культа [3; 34–36]. В проводимых отделом мероприятиях следовало отмечать незначительность деятельности Советского Союза, направленной на карел, подчеркивать национальное и естественное единство Финляндии и Карелии. Как пишут финские исследователи, в просветительской работе проглядывала идеология Академического карельского общества, исходившая из противостояния финского и славянского начал, финно-угорских и русского народов [12; 103], [15; 115].
Важное значение в проводимой финской оккупационной администрацией этнокультурной политике отводилось школьному образованию. 5 января 1942 года ВУВК обнародовало постановление об основах народной школы в Восточной Карелии, согласно которому языком обучения во всех школах становился финский. По этой причине русские дети оставались за бортом народной школы вплоть до конца 1943 года. К концу 1941 года были основаны 53 народные школы, в которых насчитывалось 4700 учеников. В 1944 году количество школ возросло до 112, в них работал 331 преподаватель и обучалось 8393 ученика, то есть около четверти всего родственного финнам населения посещало школу [12; 103].
Особенно большое внимание в учебных планах и программах народных школ уделялось ми- ровоззренческим предметам: истории, географии, финскому языку и религии. В 1942 году был издан учебник «Моя страна – Великая Финляндия». На уроках истории пытались показать, что советская государственная система ничего не сделала для карельского населения, что русские были и остаются извечными врагами финнам и родственным им народам. Преподавание географии хорошо укладывалось в два слова – Великая Финляндия, на этих уроках старались доказать, что Восточная Карелия должна стать составной частью этого государства.
По мнению финских исследователей, повышению популярности народных школ среди местного финно-угорского населения способствовало то обстоятельство, что при них стали открываться столовые, где учеников бесплатно кормили. Первые школьные столовые были открыты в январе 1942 года, в феврале этого же года их на-счи-тывалось 54, а в марте – 64 [9]. Кроме того, в период войны в различные школы и народные училища, а также на курсы в Финляндию была отправлена большая группа карельской молодежи.
Учителя в народных школах для коренного населения на оккупированной территории Карелии в основном были из Финляндии. Осенью 1941 года в Финляндии был проведен набор учителей для работы в Восточной Карелии. Из 630 претендентов были отобраны 128 человек. С 3 по 9 ноября 1941 года для них были организованы курсы при Хельсинкском университете [5; 207].
Особую группу составляли учителя, работавшие в школах в советское время. Их направляли для обучения в Финляндию, полагая, что путем краткосрочных курсов удастся вытравить из них коммунистическое мировоззрение. Так, в конце 1941 года со всей оккупированной территории Карелии финские власти стали собирать в Петрозаводске бывших советских учителей, в большинстве своем карелов и вепсов. В декабре 1941 года они были направлены в Финляндию в учительский лагерь Миеслахти. Всего прибыло 59 женщин и 13 мужчин. Преподавателями этого учительского лагеря стали откомандированные Военным управлением Восточной Карелии офицеры, которые являлись педагогами по специальности. Кроме того, в качестве преподавателей выступали учителя г. Каяни и Сортавальской семинарии, эвакуированной в Каяни. После окончания курсов бывшие советские учителя вернулись обратно на оккупированную территорию Карелии для работы в народных школах [2; 292].
Большое внимание в этнокультурной политике финской администрации отводилось религии, которую считали одним из действенных средств антикоммунистического воздействия на местную молодежь. Лютеранские круги Финляндии хотели обратить карел и вепсов в свою веру.
Однако, учитывая протесты карельского населения против обращения в лютеранство, главнокомандующий финскими войсками К. Маннергейм 24 апреля 1942 года издал приказ, согласно которому запрещалась пропаганда смены конфессий, и жители Карелии получили право свободно выбирать православную или лютеранскую веру [15; 118]. К концу 1943 года из находившегося на свободе населения Восточной Карелии к церкви приобщилось 48 %, из них 66 % коренного и 24 % некоренного. Православную церковь посещало 45 % населения, лютеранскую – 3 % [15; 118], [12; 105]. Эти цифры показывают, что традиционная православная вера оставалась для карел и вепсов определяющей в годы оккупации, как и в довоенный период. Финские исследователи признают, что религиозное воспитание на протяжении трех лет не в силах было истребить веру местного населения в правоту советского строя, религиозная работа не дала заметных результатов [15; 118], [12; 105].
С первых недель оккупации сотрудники ВУВК стали обращать внимание на имена, даваемые детям при крещении. Из регистраций крещений было видно, что осенью 1941 года детям карельской и вепсской национальности давали русские имена. Олонецкий штаб Военного управления потребовал от священнослужителей разъяснить населению, что подобные имена абсолютно неуместны для Финляндии. Они должны были убеждать родителей давать своим детям финские имена. В качестве приложения имелся список одобренных православной церковью финских имен. Но лишь немногие жители Карелии в период оккупации сменили свои фамилии и имена на финские. За 1941–1944 годы таких оказалось 2263 человека [15; 119].
Важнейшими средствами этнокультурного воздействия на местное финно-угорское население были газеты и радио. Печатным органом ВУВК была газета «Vapaa Karjala» («Свободная Карелия»), издававшаяся на финском языке один раз в неделю на протяжении всех лет оккупации. Первый номер вышел в августе 1941 года тиражом в 5000 экземпляров. К концу года тираж достиг 10 000 экземпляров, а в 1943 году составлял уже 11 700 экземпляров. Главное направление газеты заключалось в принижении русского народа и возвеличивании идеи Великой Финляндии. С 1942 года Военное управление стало выпускать газету «Paatenan Viesti» («Паданские вести») на финском языке тиражом 1400 экземпляров. Все эти газеты оставляли вне внимания русское население.
Газета «Vapaa Karjala» регулярно под рубрикой «Дневник войны» давала информацию «об успехах» германской армии и ее союзников, под рубрикой «В освобожденных областях» рекламировала «успехи» немецкой оккупационной администрации. Даже в рубриках «В часы досуга»
и «Юмор» публикуемые кроссворды, ребусы, загадки были пропагандистскими.
Что касается русских жителей, то в издававшейся для военнопленных газете «Северное слово» в 1943 и 1944 годах выпускали приложения для гражданского населения. Эти материалы также носили чисто пропагандистский характер, подчеркивали роль финнов в Восточной Карелии. Так, газета «Северное слово» в начале 1943 года писала: «Прошедший 1942 год имел большое значение в развитии и подъеме Восточной Карелии. Финское Военное управление освобожденной Карелии продолжило работу по освобождению населения от большевистского рабства. Многое было сделано в области улучшения материального положения, а также дано хорошее начало для поднятия экономического положения населения до уровня остальной Финляндии. Со стороны Финского Военного командования и Красного Креста особое внимание было уделено санитарной деятельности. К концу года в Восточной Карелии функционировали 2 больших финских больницы, 3 меньших размеров, 2 родильных дома, 11 амбулаторий и 7 санитарных пунктов… Все это свидетельствует о стремлении коренных финнов помочь своим братьям по крови и создать им достойную человека свободную жизнь в освобожденной Карелии» [8].
Радио Олонца («Aunuksen radio») проводило в жизнь те же идеи, что и оккупационные газеты. Оно было основано военным командованием, но уже в августе 1941 года отдел просвещения ВУВК счел необходимым подчеркнуть, что программы, предназначенные для гражданского населения, должны быть в его руках. В октябре 1941 года Радио Олонца переехало в Петрозаводск в находящийся там радиоцентр. Сначала в программах радио наряду с финским использовался и русский язык, но от него отказались уже в апреле 1942 года, зато увеличили количество программ на карельском языке.
Военное управление позаботилось и о том, чтобы у пропагандистских радиопередач была по возможности большая аудитория. В марте 1942 года на оккупированной территории было 84 радиоточки, власти организовали 900 коллективных прослушиваний, в которых приняли участие 16 тыс. человек. К весне 1944 года только в Петрозаводске насчитывалось уже более тысячи радиоточек [15; 119].
Определенное место в этнокультурной политике ВУВК отводилось библиотечному делу. Эта деятельность началась с изъятия у местных жителей, а также из библиотек советской литературы. Опись книг, подлежавших уничтожению, составляла 157 листов [4; 1–157]. Для искоренения «нежелательной литературы» в народных школах было организовано соревнование по сбору «коммунистической литературы» на русском и финском языках [9; 4–5]. Вместо изъятой со- ветской литературы была привезена финская. К концу 1941 года на оккупированной территории Советской Карелии были открыты 3 библиотеки. В отчете ВУВК за декабрь 1941 года говорилось, что «библиотеки использовались удовлетворительно, главным читателем является молодежь.
Финские власти организовывали также просмотр кинофильмов. В конце 1941 года ВУВК был получен киноаппарат, который возили на санях [5; 197]. Первые кинотеатры были открыты в начале 1942 года. Билет стоил 5 марок, но практиковался и бесплатный просмотр кинолент, которые носили ярко выраженный пропагандистский характер [9; 4–5].
Важную роль в этнокультурной деятельности оккупационные власти отводили национальным праздникам. В Петрозаводске для их проведения часто использовалась центральная площадь – площадь Кирова. Главной темой праздников была пропаганда «финских традиций и национального духа».
Первым крупным мероприятием такого рода стало празднование Дня независимости Финляндии 6 декабря 1941 года, которое проводилось на всей оккупированной финнами территории. Также проводились такие праздники, как дни Калевалы, матери, Финского флага, день рождения маршала Маннергейма, праздник урожая, освобождения деревень и др. [5; 415]. Очень часто праздники устраивались в народных школах. В отчете ВУВК за декабрь 1941 года указывалось, что «в смысле обработки настроения населения праздники сыграли значительную роль» [5; 167].
Попытка культурной финнизации местного финно-угорского населения ярко проявилась и в топонимике. 1 октября 1941 года Петрозаводск был переименован в Яанислинна (Крепость на Онего), а Олонец – в Аунуслинна (Крепость Олонии). ВУВК дало новые названия 90 улицам Петрозаводска: улица Ленина была переименована в Карельскую, ул. Герцена – в Олонецкую, Кирова – в Калевальскую, Дзержинского – в Вяйнямейнена, Комсомольская – в Сампо, Анохина – в Егерскую, Горького – в Воина-соплеменника и др. В других городах и селах на оккупированной территории также проходило переименование улиц в честь героев так называемых «племенных войн» и происходящей войны, а также героев национального эпоса «Калевала».
Цель была прежней – усилить финское влияние в Восточной Карелии, вбить клин между финно-угорским и русским населением. Газета оккупационной администрации «Vapaa Karjala» 12 февраля 1943 года по поводу переименования улиц в Петрозаводске писала: «У каждого карела есть основание радоваться исчезновению следов большевизма, позднее это будет сделано и в других городах Восточной Карелии. Появившиеся в названиях улиц национальные мотивы возвещают, что Восточная Карелия освободилась от оков рюссей» [7].
Результаты этнокультурной политики финских властей на оккупированной территории Советской Карелии в военный период, отношение к ней местного населения ярко проявились на заключительном этапе военных действий на Севере. Уже осенью 1943 года штабом ВУВК был разработан план эвакуации с оккупированной территории. Эвакуации подлежало только родственное население (по предварительным оценкам, около 43 тыс. человек). Русскоязычное население предполагалось оставить по месту жительства или в концлагерях.
Летом 1944 года, когда началось наступление советских войск по всему советско-финляндскому участку советско-германского фронта, в планы эвакуации из Восточной Карелии были внесены изменения. В приказе финского военного командования местное население уже не подлежало обязательной эвакуации. В случае, если жители будут двигаться в Финляндию по собственной инициативе, им следовало оказать помощь.
По данным финских источников, на оккупированной территории Карелии к лету 1944 года оставалось 83 540 местных жителей. С оккупированной территории Карелии в Финляндию эвакуировалось незначительное количество – 2799 человек, или только 3,35 % от всего населения зоны оккупации [15; 126].
В целом можно отметить, что этнокультурная политика финского оккупационного режима в Карелии в период Великой Отечественной войны, направленная на разделение населения по национальному признаку (на финно-угорское и русское), не принесла желаемых результатов. Ему не удалось привлечь на свою сторону советских карел, вепсов и финнов.
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Совместный проект РГНФ и Академии наук Финляндии «Народ, разделенный границей. Карелы в истории России и Финляндии в 1809–2009 гг.: эволюция идентичности, религии и языка» № 10-0100631 a/F.
ПРИМЕЧАНИЕ
* Восточной Карелией в Финляндии считается территория, определенная Тартуским мирным договором 1920 года между Финляндией и Советской Россией к востоку от Финляндии: по р. Свирь, побережьям Онежского озера и Белого моря. Это территория примерно в границах нынешней Республики Карелии.
Список литературы Этнокультурная политика финской администрации на оккупированной территории советской Карелии в 1941-1944 годах
- Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия (Архив УФСБ РФ по РК). Ф. 35. П./ф. 20. Оп. 1. Д. 82.
- Архив УФСБ РФ по РК. Фтдм. Оп. 2. Д. 8303. Л. 292.
- Национальный архив Республики Карелия (НА РК). Ф. 8. Оп. 1. Д. 1127.
- НА РК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 17.
- По обе стороны Карельского фронта, 1941-1944: Документы и материалы/Сост. А. В. Климова, В. Г. Макуров. Петрозаводск: Карелия, 1995. 636 с.
- Северное слово. 1942-1944 гг.//НА РК.
- Vapaa Karjala. 1943. 12 февраля.
- В единении со свободной Финляндией -будущность Восточной Карелии//Северное слово. 1943. 30 января.
- Куломаа Ю. Город на Онего//Набат Северо-Запада. 1991. 3-31 мая.
- Лайне А. Национальный вопрос в финской оккупационной политике в Советской Карелии во время Второй мировой войны//Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990. С. 98-104.
- Лайне А. Гражданское население Восточной Карелии под финляндской оккупацией во Второй мировой войне//Карелия, Финляндия и Заполярье во Второй мировой войне. Петрозаводск, 1994. С. 41-43.
- Лайне А. Национальная политика финских оккупационных властей в Карелии (1941-1944 гг.)//Вопросы истории Европейского Севера (проблемы социальной экономики и политики: 60-е годы ХIХ-XX вв.): Сб. науч. ст. Петрозаводск, 1995. С. 99-106.
- Морозов К. А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск: Карелия, 1983. 239 с.
- Невалайнен П. Карелия после 1917 года//История карельского народа. Петрозаводск: Барс, 1998. 322 с.
- Сеппяля Х. Финляндия как оккупант в 1941-1944 годах//Север. 1995. № 4-5. С. 106-128.