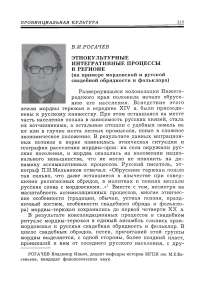Этнокультурные интегративные процессы в регионе (на примере мордовской и русской свадебной обрядности и фольклора)
Автор: Рогачев Владимир Ильич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 3 (48), 2004 года.
Бесплатный доступ
На примере свадебных обрядов в статье анализируются общие и особенности обрядов и фольклора русских и мордово-терюханов Нижегородской области.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222133
IDR: 147222133
Текст научной статьи Этнокультурные интегративные процессы в регионе (на примере мордовской и русской свадебной обрядности и фольклора)
Развернувшаяся колонизация Нижегородского края положила начало обрусению его населения. Вследствие этого земли мордвы терюхан в середине XIV в. были присоединены к русскому княжеству. При этом оставшаяся на месте часть населения попала в зависимость русских князей, стала их вотчинниками, а остальные отошли с удобных земель на юг или в глухие места лесных промыслов, попав в сложное экономическое положение. В результате данных миграционных потоков в корне изменилась этническая ситуация и география расселения мордвы-эрзи: их села окружили русские поселения, и мордва оказалась на положении национального меньшинства, что не могло не повлиять на динамику ассимилятивных процессов. Русский писатель, этнограф П.И.Мельников отмечал: «Обрусение терюхан пошло так сильно, что даже оставшиеся в язычестве при совершении религиозных обрядов, в молитвах и пениях мешали русские слова с мордовскими...»1 Вместе с тем, несмотря на масштабность ассимиляционных процессов, многие этнические особенности (традиции, обычаи, устная поэзия, праздничный костюм, особенности свадебного обряда и фольклора) мордвы-терюхан сохранились до первой четверти XX в. В результате консолидационных процессов в свадебном ритуале мордвы-терюхан в единый ансамбль слились эрзя-мордовская и русская свадебная обрядность и фольклор. В цикле свадебных обрядов, песен, причитаний этой группы мордвы выделяется, с одной стороны, более поздний пласт, проникший к ним от соседнего русского населения, с дру-
РОГАЧЕВ Владимир Ильич, доцент кафедры истории МГПИ им. М.Е.Ев-севьева, кандидат филологических наук.
гой стороны, более древний, близкий к эрзянской свадьбе2 Например, сватовство у мордвы-терюхан, как и у русских, было более раскрепощенным от суеверий, более шумным и ярким, с элементами состязательности в остроумии. Эта черта отмечена исследователями, характеризовавшими сватовство как один из наиболее интересных предсвадебных этапов, обставленных символическими обрядами и традиционными разговорами сватов с родителями невесты, который ведется исключительно в форме загадок — «...мотив состязания загадками и находчивыми ответами проходит по всем дальнейшим эпизодам свадьбы»3. Мордва, наоборот, боясь нарушить религиозные запреты, сакральность ритуала, спугнуть удачу и счастье, сватовство проводила в камерной обстановке. Примером такого подхода может быть обряд сватовства у эрзи и мокши современной территории Мордовии, который сопровождался разного рода суеверными действиями, направленными на успех: вслед посланным сватать бросают старый лапоть, в надежде на удачное сватовство похищают мочалку для мытья посуды в доме невесты, стараясь во время сватовства незаметно спутать ее, полагая, что этим можно запутать ум родителей и уговорить их4
У нижегородской мордвы-терюхан важным моментом сватовства был день, когда съезжались на пироги в дом невесты. С собой везли оговоренные заранее большие (озо-ритые) пироги, несколько караваев ситного хлеба, девичью лепешку с грушей, вино и пиво5 Нечто подобное происходило и в Мордовии. После того, как были приняты пироги, по обычаям нижегородской мордвы никакие обстоятельства не могли препятствовать свадьбе, и девушка ни под каким предлогом не могла выйти замуж за другого. Этот обряд сопровождался молениями при зажженных свечах перед иконами. Лишь затем с криками и хохотом разламывалась девичья лепешка и начиналось веселье.
В мордовском свадебном обряде все ритуалы и этапы соединены между собой песнями, приговорами, пословицами участников свадьбы, причитаниями невесты. Уже с момента приезда на пироги у мордвы-терюхан девушки начинают исполнять родственникам жениха, отцу кориль-ные песни — острые, меткие, язвительные:
Сватушка, сватушка, ты хвалился, Ты хвалился тороват:
У тя два дома, ан один домишка,
Во том во домишке один анбаришка,
Во том анбаришке один сусечишко, Во том сусечишке один коробишко: Стуки — буки в лукошке
Нет муки ни крошки...6
Методом ступенчатого сужения создается окрашенная юмором саркастическая картина полной хозяйственной несостоятельности «сватушки». Уменьшительно-уничижительный суффикс — ишк — в словах «во домишке», «анбаришка», «сусечишко», «коробишко» с оттенком отрицательной оценки усиливает это впечатление. Звукоподражательные словосочетания «стуки-буки» усугубляют и без того «печальную, ироническую картину существования «сватьёв».
В свадебном фольклоре мордвы-терюхан отчетливо проявляется противостояние партии жениха и партии невесты как антиподов свадебного действа. В корильной песне талантливо создаются умозрительные картины помощи «сватушкам» «порхунчиков-голубчиков», которые «по гумнам порхали», по зернышку с мира собирали, к сватушке в дом носили, сквозь угол мололи, сквозь веник просевали»7 Используемая в заключение корильной песни гипербола, например «...к нам привезли: по кукишу пироги, грошевы лепешки»8, усиливает сатирический акцент. Противостояние двух состязающихся партий просматривается и в сравнительно-сопоставительном ряде, выстроенном из фразеологизмов, завершающих песню: «Наши те пироги, что муромски калачи, а ваши те пироги, что у баб — те кочерги»9
В свадебных песнях нижегородской мордвы-терюхан уже с середины XIX в. отчетливо наблюдается переход на использование некоторых песенных жанров и формул русского обрядового фольклора. Это происходит на фоне потерь в родном языке и песнях. Лишь отдельные словосочетания и предложения в свадебных песнях, например «Кещь еде мурадо»10, воспринимаемые уже как анахронизм, напоминают о языке предков. Тенденция перехода на русский язык наметилась на уровне не только лексического запоминания и воспроизведения слов, но и диалектно-фонетических произносительных норм:
Сватушка, сватушка, где боченок учуешь, Там три дня танцуешь.
А где бочку учуёшь, Там неделю танцоёшь11.
Характерные диалектные «учуёшь», «танцоёшь» — свидетельство наметившихся изменений, процессов языковой перестройки, произошедших у мордвы-терюхан на психолингвистическом уровне. Записи свадебных песен середины XIX в. достаточно полно характеризуют свадебно-обрядовый фольклор мордвы-терюхан. Так, свадебная величальная песня, исполняемая подругами невесты, отличается по своей этнической типологии и заимствована терюханами у русских:
Как в новой-те избе, в горнице Олёшинька кудри чесал, А сам приговаривал: Прилегайте, кудёрочки, К моему лицу, к белому, Свикайся, Аксютушка, С моём-те разумом.
Как входила Аксютушка,
Говорил ей Олёшинька:
Ты войди, моя гостейка,
Ты войди, моя барыня,
Ты войди, моя лебёдушка Ты войди, груша зелёная, Ты войди, моя жемчужина12.
Речевой строй свадебной песни по своей типологии восходит к русской обрядовой поэзии, так как используются художественно-изобразительные приемы русского фольклора, образы построены в соответствии с его канонами. Например: «Олёшинька кудри чесал... кудёрочки», «свикайся... с моём-те разумом», «моя гостейка», «моя лебёдушка», «моя барыня», «моя голубушка» — речевые обороты, сравнения, устойчивые выражения характерны в целом для русского фольклора и выстраиваются в соответствии с логикой русского народного стихосложения. Приведенный пример говорит о серьезных ассимиляционных и консолидационных процессах, происходящих в регионе, высокой степени адаптации мордвы-терюхан в песенную культуру соседнего народа. Рассматриваемая нами величальная песня построена в форме поэтического диалога, когда девушки, исполнив одну партию жениха, приступали к партии невесты:
Кабы я была гостейка,
За столом бы сидела за новым, Да пила бы сыту медовую;
Как бы я была лебёдушка, Я бы по морю плавала;
Как бы я была голубушка, Я по гумнам бы летала;
Как бы я была жемчужина, У тебя бы в перстню вставлена13.
И в этом случае в песне выступают традиционные фольклорные образы и словосочетания «лебёдушка», «голубушка», «гостейка», «по морю плавала», «сыта медовая» и др. Прием синонимического параллелизма, используемый в песне в различных вариантах, позволяет более полно, во всей красе развернуть образ невесты, уверенно-горделивой, знающей себе цену, не поддающейся на лесть. Повторяющиеся синтаксические конструкции из сложноподчиненных предложений с придаточными условными позволяют оптимально построить и передать содержание песни.
Свадебный обряд нижегородской мордвы-терюхан, в значительной своей части построенный на использовании свадебных песен русского фольклора, имел уравновешенную композицию. Наряду с величальными песнями пелись кориль-ные, шутливые, посвященные центральным, традиционно оппонирующим друг другу персонажам — теще и зятю. В них выражается народный взгляд на их взаимоотношения:
Теща про зятя пирог пекла: Соли да муки на четыре рубля, Сахару, изюму на восемь рублёв. Думала же теща семерых накормить; Зять на двор, пирог на стол, Зять приходом пирог съел. — Как тебя, зятюшка, не разорвало, Дуй те горой не положило!
Зять тещу к себе на пирог звал, Зять тещу посредь поля встречал, С четырьмя дубинами, С четырьмя вязовыми
Теща бежала, приустала бегучи14
В свадебном ритуале мордвы-терюхан были свои особенности. Через несколько дней, после озоритых пирогов, когда уже нельзя было отказать жениху, его отец шел договариваться о дне свадьбы.
Ряд ритуалов, действий, эпизодов свадьбы нижегородских терюхан восходит по типологии к традиционной мордовской свадьбе, другие в результате взаимосвязей заимствованы у русских, третьи с некоторыми особенностями встречаются в обрядности и фольклоре как у одного, так и у другого народов. В целом при схожем характере обряда и фольклора мордвы (эрзи и мокши) с терюханами имелись некоторые особенности — причитания невесты не обходились одним днем или вечером. У мордвы (эрзи и мокши) невеста начинала причитывать за 15 дней до свадьбы. Обряд назывался «урнеме серьгедема» — оплакивать свое девичество. По времени проведения причитания подразделялись на утренние и вечерние.
Накануне дня свадьбы, вечером, после расплетения косы и девичьей бани невеста с подругами всю ночь не спали, готовили дары — вышивали полотенца, пели свадебные песни. У мордвы-терюхан, как у русских, так и у мокши и эрзи Мордовии, зафиксированы причитания невесты, исполняемые в вечернее время. Отсюда и название предсвадебного вечера — день плакущий (то же, что и русский девичник). Рано утром невеста на коленях просила у родителей благословления — «доброй баславки» — и лишь затем, по старому мордовскому обычаю, с подругами проходила через задние ворота в огород на специальное место и устраивала «озкс — молян». Отвесив предкам пять земных поклонов, она начинала молиться и причитать: «Благослови меня, батюшка, благослови меня матушка, благослови мать сыра земля. Матушка Пресвятая Богородица! Помилуй меня. Благослови меня, небо и земля: пущу голос на всю волость, на все четыре стороны. Подойду к батюшке, к матушке просить себе доброй баславки»15. В словах и выражениях невесты-терюханки наряду с традиционными русскими формулировками заметны сочетания, характерные более для морфологии нерусской речи: «пущу голос на всю волость, на все четыре стороны». Для русского языка правильнее было бы «закричу, «заплачу», «завою», «запричи- таю на всю волость», но никак не «пущу голос». Такое же несоответствие чувствуется в выражении «просить доброй баславки», происшедшем от фонетически адаптированного к мордовским языкам русского «благословления». В Мордовии до сих пор говорят «баславамс» — благословить.
С глубокой древности у мордвы сакральным временем суток считались утренние и вечерние часы. Отголоски язычества слышны в причетах невесты, обращенных к утренней заре: «Благослови меня, зоря матушка с красным солнышком и со светлым месяцем, и с ясными звездочками»16 В ее причетах активно используется метафорическая речь в виде рифмованной прозы, придающей плачу яркий, запоминающийся характер: «Заря заряет — меня батюшка со двора сгоняет, солнце красное восходит — моя волюшка отходит»17. Приведенные строки более напоминают фразеологизмы.
В отличие от невесты-терюханки невеста-мордовка (эрзянка или мокшанка) обращалась к верховному и земным языческим божествам, покровителям:
Вере, вере, вере паз! Верешки паз сияка! Ниле енов сюконян, Ниле пазнэнь энялдан. Кона пазось максымим, Секе пазось чанстимам...18
Высший, высший, высший бог! Высший бог, создатель серебряный! На четыре стороны поклонюсь, Четырем богам помолюсь.
Который из богов даровал меня, Тот пусть благословит меня...
При обращении к богам и предкам невеста поворачивалась лицом на восток, потому что потусторонний, загробный мир представлялся мордве подобием земного, по поверьям, находился где-то на востоке, под землей19 Поэтому в представлениях невесты, приглашающей великих своих дедушек, бабушек на свадьбу, «выражалось опасение, что на подземной дороге много пыли», «много праха земляного» и «кисейные саваны земляная пыль покроет, прах запачкает»20 В причитаниях невесты, которую подруги одевают в свадебное платье, звучит опасение, что этот «покай» придется носить ей «по холодной могильной дороге, по черной подземной тропе»21.
В Нижегородской губернии, представлявшей когда-то коренной регион проживания мордвы-эрзи, особое место занимал культ предков, с которыми генетическими узами была связана невеста. Чувство родства, уважения, благо наиболее ярко проявлялось в эрзи южных районов Нижего-подвергшейся ассимиляции:
дарного отношения к ним свадебной поэзии мордвы-родской губернии, меньше
Басня ливан, курке саян Эрзянь верань кулытнень... Поптомо калмастнень, Тикше трукасо курястнень, Сиянь крёсттомо ливтестнень22
Сначала я почту, помяну
В мордовской вере умерших...
Без попов похороненных, Сенной трухой окуренных, Без серебряных крестов вынесенных.
В памяти мордвы, в основной своей массе крестившейся в первой половине XVIII в., достаточно свежи были воспоминания о языческих временах. Считалось, что умершие предки, если их хорошо поминать, помогают своим потомкам. Именно таким почитанием предков можно объяснить приглашение давно умерших «покштят-бабат» — дедушек и бабушек, а также «сэри-атят» — верховных стариков — на свадьбу:
Садоя, бодян, садоя, Садоя, бабан, садоя... Туеде, бодян, туеде, Туеде, бабан, туеде Кеверить кснавт-сельведкеть. Чулгонь пештькеть-валнэть23.
Приходите, деды мои, приходите, Приходите, бабушки мои, приходите... Принесите деды мои, принесите, Принесите бабушки мои, принесите Катящиеся горошины-слезы.
Лущеные орехи-словечки.
В обращении к предкам звучит просьба помочь пережить, оплакать уходящую беззаботную молодость, поддержать мудрыми советами и благословить добрыми напутственными словами в самостоятельную семейную жизнь. В надежде на помощь предков мордва (мокша и эрзя) и мордва-терюхане Нижегородской губернии проводили обряд моления предкам в доме невесты. Подобный же ритуал моления предкам рода устраивался в доме жениха, где невесту знакомили с предками — хранителями рода. Обряд знакомства с предками новой семьи проходил во время второго — основного — этапа мордовской свадьбы. Этот ритуал имел название «ваньке таркас одирьвань ливтема» — вывод молодушки на чистое место, т.е. представление ее умершим предкам. Для этих целей в соответствии с ритуалом проведения брали с собой «ал пачалксе» — яичные блины, мясо, вино, «пуре», или пиво, для одаривания предков готовили с собой несколько кусков белого домотканого холста. В старину невеста дарила покойникам рубашки, штаны, кокошники, портянки и пр.
В ярких, красочных эпитетах, сравнениях, метафорах свадебной поэзии мордвы-терюхан, как уже было отмечено, заметен отчасти переход на русскую художественную изобразительную систему, парадигму фольклорного мышления соседнего народа. В поэтической лексике мордвы-терюхан заметно появление русских слов «добрый молодец», «ясный сокол» и др. В свадебном фольклоре мордвы-терюхан в соответствии со сложившимися с народными представлениями и песенными традициями окружающего русского населения нашли отражение наиболее популярные персонажи свадьбы (образ свекрови). В устах невесты образ «ававки» — свекрови, построенный на приемах контрастного сравнения, приобретает грозные очертания:
Посмотрите голубушки, Не гром ли гремит, Не молонья ли палит, С частым дождиком, Со белым градом24.
Повтор-предупреждение, с которого начинается причитание, продолжен сравнительными оборотами: «Не гром ли гремит, не молонья ли палит» — построенный на звукоряде и светописи, которые дают представление об образе свекрови. Простонародные «молонья», «палит», «гремит» делают образ свекрови реалистичным, осязаемо-бытовым, приближенным к реальной жизни. Сам стих построен на характерных словосочетаниях, ритмике и образах «частый дождик», «со белым градом», выстраивающих соответствующий ассоциативный ряд и позволяющих зримо представить один из центральных образов свадьбы.
В свадебной поэзии мордвы (эрзи и мокши) в отличие от мордвы-терюхан свекровь изображается несколько по-иному. Ей посвящается целый поэтический цикл. Рассматривается не какая-то отдельная черта свекрови, а вся ее противоречивая суть. В причете невесты выстраивается сложная по структуре поэтическая композиция, позволяющая наиболее полно раскрыть природу и характер свекрови. В напряженном диалоге, который синхронно развивают невеста и замужняя женщина, на вопрос невесты: «а какова свекровь?», замужняя женщина в своем ответе-причете сразу называет ее: «ломань авась» — чужая мать, которая сравнивается, с одной стороны, с пищей:
Be ёндо сон ваномсто — Тантей ярсамонь кондямо, Седьс педи ярсамонь кондямо25
Со стороны на нее посмотреть — Она как еда сладкая, Она как пища вкусная.
С другой — образ свекрови, построенный на контрастных противопоставлениях, включает довольно редко встречающееся в мировой фольклористике сравнение с крапивой:
Ломань авась, дугинем, Пиципалаксонь конзямо. Бути сон пицитянзат — Шлязьгак, дугай, а шляви, Коцькерязьгак а коцкеряви26.
Чужая-то мать, голубушка, Как крапива жгучая.
Если она обожжет тебя —
И мытьем, голубушка, не смоется, И скобленьем не соскоблится.
Получившийся образ настолько неожиданный, настолько и точный. Он поражает своей оригинальностью и содержательностью. Использование этого сравнения — довольно редкое явление в других жанрах устной поэзии мордвы и других народов региона. Здесь отчетливо просматривается то, что, несмотря на типологически схожую природу, образ свекрови несколько по-разному освещается в свадебной поэзии нижегородских терюхан и у мордвы (эрзи и мокши), т.к. арсенал художественно-изобразительных средств у русских и близких к ним мордвы-терюхан и мордвы (мокши и эрзи) все-таки отличается друг от друга. Тем не менее в свадебном фольклоре мордвы-терюхан Нижегородчины наряду с русскими встречаются отдельные обороты, понятия, присущие традиционно мордовской свадьбе.
Стой, постой, уредев — вожа Отеческий сын, двухтысячная голова, Сам ты на стыд не ходи, Меня молодую в стыд не вводи27
В словосочетании первого предложения причета используется мордовский свадебный термин «уредев» — дружок, который для нас является сигнальным, свидетельствующим о первоначальной природе культуры мордвы-терюхан. Хотя здесь слово «уредев» и сопровождается приложением «вожа» в значении водить, сопровождать, оберегать на свадьбе невесту и жениха, даже на примере этого отрывка свадебного фольклора, его отдельных фрагментов можно наблюдать замещение мордовских элементов целыми речевыми оборотами: «отеческий сын», «двухтысячная голова», устоявшимися конструкциями: «сам ты на стыд не ходи, меня молодую в стыд не вводи».
Изменения в мордовской свадебной обрядности и фольклоре — довольно существенный показатель их трансформации, постепенного замещения типологически другими, инонациональными элементами. Частое обращение к русскому языку постепенно приводит к тому, что мордва вместе с языком воспринимает и некоторые русские песни, которые отличались некоторым разнообразием, вносимым «певцами-мордвинами»18
Длительное совместное проживание мордовского и русского народов в Нижегородском крае привело к интеграции и консолидационным процессам в хозяйственно-бытовой, социально-экономической, культурной жизни этих народов средневолжского региона. Единство этнокультурной жизни мордвы-терюхан и русских длительное время определяли развитие близких форм духовной культуры, среди которых немалое место занимали ее обрядовые формы. Взаимосвязь мордовской и русской свадебной поэзии и обрядности в культуре мордвы-терюхан привлекают внимание фольклористов и этнографов своей органичностью и цельностью, до сих пор определяют глубокий интерес ученых к этому слабо разработанному феномену.
Список литературы Этнокультурные интегративные процессы в регионе (на примере мордовской и русской свадебной обрядности и фольклора)
- Мельников П.И. Очерки мордвы. Саранск, 1981. С. 22-23.
- Белицер В.Н. Традиционные черты общемордовской культуры в обрядах и фольклоре терюхан // Вопросы финно-угорского фольклора. Труды МНИИЯЛИЭ. Вып. 50. Саранск, 1974. С. 25.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1940. С. 202.
- Евсевъев М.Е. Избр. тр.: В 5 т. Саранск, 1966. С. 11.
- Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. Саранск, 1990. С. 26-27.
- Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1998. С. 7.
- Мельников П.И. Симбирские губернские ведомости. 1851. № 25. С. 3.
- Посадский А.Н. Мельников П.И. (Андрей Печерский) и мордовский край. Саранск, 1988. С. 71.