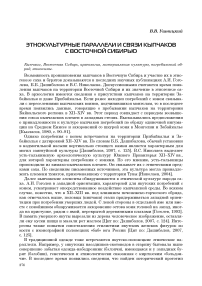Этнокультурные параллели и связи кыпчаков с Восточной Сибирью
Автор: Ушницкий Василий Васильевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (18), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье разбираются этнокультурные контакты кыпчаков с восточными районами Сибири. Обсуждаются возможность проникновения кыпчаков в Восточную Сибирь, их участие в этногенезе саха. Исследуются параллели в материальной культуре саха и кыпчакских народов.
Кыпчаки, восточная сибирь, археология, материальная культура, погребальный обряд, этнонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/144153344
IDR: 144153344
Текст научной статьи Этнокультурные параллели и связи кыпчаков с Восточной Сибирью
Возможность проникновения кыпчаков в Восточную Сибирь и участие их в этногенезе саха и бурятов доказываются в последних научных публикациях А.И. Гоголева, Б.Б. Дашибалова и В.С. Николаева. Дискуссионными считаются время появления кыпчаков на территории Восточной Сибири и их значение в этногенезе саха. В археологии имеются сведения о присутствии кыпчаков на территории Забайкалья и даже Прибайкалья. Если ранее находки погребений с конем связывали с переселениями кыпчакских воинов, подчинявшихся монголам, то в последнее время появились данные, говорящие о пребывании кыпчаков на территориии Байкальского региона в XII–XIV вв. Этот период совпадает с периодом возвышения союза кыпчакских племен в западных степях. Высказывались предположения о принадлежности к культуре кыпчаков погребений по обряду одиночной ингума-ции на Среднем Енисее и захоронений со шкурой коня в Монголии и Забайкалье [Кызласов, 1980, с. 90–91].
Однако погребения с конем встречаются на территории Прибайкалья и Забайкалья с датировкой XII–XIV вв. По словам Б.Б. Дашибалова, обычай установки в надмогильной насыпи вертикально стоящего камня является характерным для могил саянтуйской культуры [Дашибалов, 2007, с. 125]. В.С. Николаев выделяет усть-талькинскую археологическую культуру Южного Приангарья XII–XIV вв., для которой характерны погребения с конями. По его мнению, усть-талькинцы происходили из кимако-кыпчакских племен. Он связывает их с этническими предками саха. По сведениям письменных источников, эта культура могла принадлежать племени туматов, прикочевавшему с территории Тувы [Николаев, 2004].
Далее кыпчакские элементы обнаруживаются в этнической культуре народа саха. А.И. Гоголев в западной ориентации, характерной для якутских погребений с конем, усматривает опосредствованное воздействие кыпчакской среды. Во всяком случае, известно, что в XII–XIII вв. под влиянием печенежско-торческого обряда, как отмечалось выше, половцы (кипчаки) стали придерживаться западной ориентации при погребении умерших людей. С левой стороны в отдельной яме или вместе с покойником обнаруживается захоронение остова коня головой на запад, иногда на приступке, рядом с ямой, перекрытой деревянными плахами [Гоголев, 1993]. В память умершего якуты вырезали из дерева человеческое изображение, оставляли ему куски пищи и мазали рот маслом [Цит по: Дашибалов, 2007, с. 124]. Интересны также попытки сопоставления стилистики якутских женских фигурок из кости с иконографией половецких «баб» юга России [Цит по: Дашибалов, 2007, с. 125].
В традиционной одежде тоже встречаются якутско-половецкие этнические параллели. Например, у сякутских наездников-скотоводов в старину бытовала ныне совершенно забытая одежда-набедренник (бэлэпчи), имеющаяся и у западных бурят (бэлэбши), генетически и этимологически связанная с киргизским «бэльдэм-чи». В последнее время появились сведения, что найден исторический прототип киргизско-казахской белдемчи. Это распашная юбка средневековых половцев европейских степей [Лобачева, 1997, с. 85]. Каменные «бабы» кыпчаков-половцев изображены в древних головных уборах – островерхой круглой шапочке в виде высокой тюбетейки. Утверждается, что старинная якутская шапка, образующая в верхней части купол типа шатра (так называемая шапка-ермолка), восходит в своих истоках к ней [Гаврильева, 1998, с. 19–20]. Необходимо отметить, что данный головной убор опять повторяет купол шатра.
Интересно сравнение пищевого режима. У кыпчаков не последнее место в пищевом рационе имела конина, причем мясо нежеребившейся кобылы считалось лучшей пищей, пиршественным блюдом, а кумыс был приятнейшим и любимым напитком кочевников [Ахинжанов, 1989, с. 237]. У саха также конское мясо, жир, потроха считались самым лакомым блюдом, а кобылий кумыс – самым отменным напитком [Серошевский, 1993, с. 258].
Определенное сходство обнаруживается в почитании солнца и в основанном на этом культе. Кыпчаки и их потомки уже в ранней своей истории развили этот культ, и обряды их во многом сходны с якутскими обычаями. Известно о том, что кыпчаки почитали солнце на восходе и у них был обычай обращать свои статуи лицом на восток [Ахинжанов, 1989, с. 273]. Для сравнения: у саха существует обряд поднимания чаш в сторону восхода солнца во время ысыаха. По словам С.Е. Ажигали, традиция установки деревянных коновязей сохранялась длительное время у различных народов региона; это типологически весьма близкие между собой коновязи – сэргэ и чакы у бурят, саха и алтайцев и фейфа – у некоторых групп венгров [Ажигали, 2002].
Нам известно о том, что при болезни человека половцы ставили знак над своим домом, чтобы никто не входил – они опасались, чтобы с входящим не явился злой дух или ветер [Карпини Плано Дж. Дель, Рубрук 1997, с. 101]. С этим можно сравнить подобный обычай саха. С момента смерти человека его юрта и все его родственники считались нечистыми. В дом, где жил покойник, никто из посторонних не заходил, и старались не встречаться с его домочадцами [Бравина, 1996, с. 100]. В XIII в. татары (половцы-кыпчаки) для умерших «богачей» строили пирамиды, то есть остроконечные домики [Карпини Плано Дж. Дель, Рубрук, 1997, с. 128]. В этой связи особо следует отметить, что у якутов существовали восьмиугольные надмогильные срубы, причем некоторые имели крышу в виде восьмигранной усеченной пирамиды [Окладников, 1955, с. 190].
Кыпчакский компонент в составе саха связывается с родом Хангалас, отождествляемых с канглы в составе кыпчакских народов. Имя другого якутского рода Мэнэ связывается с кыпчакским словом мэнгу – вечный. Имя рода Байагантай сопоставляется с названием племени байаут в составе монголов. Это племя являлось династийным среди кыпчаков Западного Казахстана в XII в. Байауты в домонгольское время отчасти обитали на территории Южной Бурятии по реке Джиде и отсюда мигрировали в западные степи. Имя сына Эллэя Хатан Хатамаллай сопоставимо с этнонимом и антропонимом котан, встречающимся среди казахов и сибирских татар. От него произошел Хатылинский род, впоследствии ставший Батурус-ским улусом. Среди кыпчакоязычных народов есть ктани, кытаи, котаны, каракы-таи. Под названием котаны скрываются кидани. Название якутского рода Борогон сопоставимо с борганами – крупным племенным обьединением тюрков Северного Кавказа. С этим племенем связан генезис кумыкского народа, иногда их потомками считаются карачаевцы и балкарцы. Есть разные мнения о происхождении борганов. Нам встречались сведения об их именовании как борган-кыпчаков; их название воспроизводится от имени племени баргу, фигурирующего в списке поздних кыпчакских племен.
Вероятно, так называемый кыпчакский комплекс в этнической культуре саха следует связывать с сибирскими татарами, возможно участвовавшими в этногенезе северных тюрков. Так, В.Ф. Ахметова отмечала, что сюжет и мотивы «Эллэйады» имеют многочисленные параллели и аналогии с эпосом «Идиге и Тохтамыш», распространенным среди кыпчакоязычных народов от Алтая до Дуная [Ахметова, 1979, с. 169].
Казахские исследователи Т.А. Инсебаев и Е.З. Кажибеков впервые отметили связь родословной саха и шежере казахского племени аргын. Согласно родословной, предками Омогоя и Эллэя являются Ёксюкю-Мэйэрэм Сюппю-Хорохой – Ар-гын – Айаал – Ёрёс Кюёл Дьулдьугун – Тюёртюгюл – Хайаран – Омогой, Эллэй. Имена предков саха они сопоставили с родовым делением казахского рода сююн-дук, входившего в состав аргынов: оразкельды-ёрёскюёлдьулдьугун; тортуул и тю-ёртюгюл, мейрам и мэйэрэм-сюппю [Кажибеков, Инсебаев, 1984, с. 107–108].
Русские исследователи XIX в. выводили предков саха от качинского рода соххы. Однако по преданию, соххы пришли с Иртыша, оторвавшись от орды Кучума. В дополнение к этому можно привести тот факт, что соххы входили в XVII в. в Кубанов аймак. На основе этого А.И. Гоголев связывает кыпчакский компонент в составе саха с носителями этнонима саха [Гоголев, 1993].
Таким образом, так называемый кыпчакский компонент в якутской этнокультуре, возможно, связан с участием татарского (сибирского) элемента в этногенезе саха, тем более что в якутских фольклорных источниках прародители народа часто выводятся из народа татаар. Отсюда исследователи досоветского периода часто выводили этнические корни саха от татар. На основе сведений из ранних фольклорных источников они в качестве прародины саха часто указывали Тобол и Бара-бинские степи. Однако указание на участие кимако-кыпчакского элемента в этногенезе усть-талькинской археологической культуры XII–XIV вв. свидетельствует о возможности более ранних контактов. Эти этнические параллели можно связать и с участием сибирского (байаутского, курыканского, алатского) компонентов в этногенезе средневековых кыпчаков.