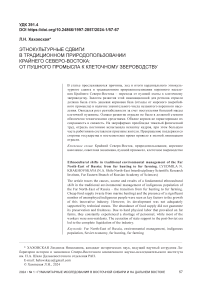Этнокультурные сдвиги в традиционном природопользовании крайнего северо-востока: от пушного промысла к клеточному звероводству
Автор: Хаховская Л.Н.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 1 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживаются причины, ход и итоги кардинального этнокультурного сдвига в традиционном природопользовании коренного населения Крайнего Северо-Востока - перехода от пушной охоты к клеточному звероводству. Залогом развития этой инновационной для региона отрасли должна была стать дешевая кормовая база (отходы от морского зверобойного промысла) и наличие значительного числа незанятого коренного населения. Ожидался рост рентабельности за счет поступления большой массы клеточной пушнины. Однако развитие отрасли не было в должной степени обеспечено техническими средствами. Обилие кормов не гарантировало их сохранность и свежесть. На зверофермах преобладал тяжелый физический труд, отрасль постоянно испытывала нехватку кадров, при этом большую часть работников составляли приезжие жители. Прекращение поддержки со стороны государства в постсоветское время привело к полной ликвидации отрасли.
Крайний северо-восток, природопользование, коренное население, советская экономика, пушной промысел, клеточное звероводство
Короткий адрес: https://sciup.org/170204315
IDR: 170204315 | УДК: 391.4 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-1/57-67
Текст научной статьи Этнокультурные сдвиги в традиционном природопользовании крайнего северо-востока: от пушного промысла к клеточному звероводству
Традиционное природопользование коренного населения Крайнего Северо-Востока (современные Магаданская область и Чукотский автономный округ) издавна включало такое хозяйственное занятие, как охота на пушных зверей. В период интеграции региона в состав Российского государства отрасль долгое время развивалась достаточно интенсивно, однако во второй половине XX в. постепенно начала угасать, что привело к ее директивной замене на клеточное звероводство. Разведение пушных зверей в клетках рассматривалось как социально значимая сфера для коренных народов, поэтому ее развитие поддерживалось органами советской власти даже вопреки экономической целесообразности. В данной статье прослеживаются причины, ход и итоги этого кардинального этнокультурного сдвига в традиционном природопользовании. Источниковой базой исследования послужил значительный пласт архивных материалов, отложившихся в результате деятельности хозяйственных, партийных и советских органов Магаданской области и Чукотки, а также материалы периодической печати. По данной теме имеется достаточно широкий круг научной литературы [1; 2; 4; 9 и др.]. В то же время актуальность нашему исследованию придает возможность детально проследить ход трансформации данных отраслей на широком хронологическом отрезке, в том числе технико-технологические, социальные и этнические аспекты модернизации.
В досоветское время пушная охота коренного населения Крайнего Северо-Востока России в значительной мере стимулировалась характером межэтнических взаимодействий. С самого начала освоения региона русские землепроходцы и сами стремились за пушной добычей, и способствовали быстрому развитию промысла у местного населения. Основную массу российских товаров коренные жители выменивали у купцов именно на меха. Длительное время главными поставщиками пушнины на Крайнем Северо-Востоке были эвены Охотско-Колымского региона, охотившиеся на белку, горностая, соболя. Привычный нам облик эвенского гардероба, в котором широко использованы ткань, бисер, металл, формировался в ходе таких обменных операций. Охотничий промысел кочевых коряков не имел существенного значения, так как основное внимание представители этого этноса уделяли оленеводству. Продажа пушнины происходила на летних ярмарках, при выходе ко- чевников на Охотское побережье; часть сырья кочевники продавали купцам в селениях и заимках в бассейне р. Колыма. В хозяйстве верхнеколымских якутов охота играла второстепенную роль. Якуты, проживающие на Охотском побережье, не столько сами добывали пушных зверей, сколько скупали меха у кочевников.
В Охотско-Колымском регионе сформировался слой зажиточных оленеводов и торговцев из числа коренного населения, которые активно участвовали в обменных операциях, «кредитовали» малоимущих охотников ружьями, капканами, боеприпасами, лахтачьей шкурой на подошвы, получая взамен половину добываемой пушнины [9, с. 123]. В первой четверти ХХ в., как свидетельствуют архивные документы, на Охотском побережье в обменные операции включились японские рыбопромышленники, самым ходовым товаром здесь стал спирт (Государственный архив Магаданской области, далее – ГАМО. Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 3. Л. 269). В качестве оружия кочевые эвены и оседлые жители Охотского побережья использовали преимущественно русские берданки военного образца, а также американские дробовики и винчестеры.
На Чукотке в XIX – начале XX вв. действовали американские промышленники, которые выменивали у местного населения пушнину. Оседлые и кочевые чукчи, чуванцы приобщались к пушному промыслу, основными объектами охоты здесь были песец и лисица. На первом месте по доходности у многих оседлых коренных жителей стояла именно торговля мехами, которые они получали как собственной охотой, так и обменом с кочевниками [10, с. 174]. Вследствие достаточно длительного обмена преимущественно с американской стороной у коренного населения Чукотки сформировалась привычка использовать винчестеры производства США.
Одним из первых мероприятий советской власти в регионе стало постановление Даль-крайисполкома, запрещавшее скупку пушнины частными торговцами (ГАМО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 5. Л. 148). Монополию на торговлю мехами государство забирало в свои руки. В 1923–1924 гг. учреждаются пушные фактории Охотско-Камчатского акционерного рыбопромышленного общества (ОКАРО) и Дальгосторга в селениях Охотского побережья, а позднее на Чукотке. Органы советской власти стремились перехватить каналы скупки пушнины, которые до начала 1930-х гг. продолжали находиться в ру- ках оседлых торговцев и крупных оленеводов. На Охотском побережье часть пушнины, как и прежде, через японских сезонных рабочих уходила контрабандой за рубеж.
Со стороны органов власти в первоначальный советский период работа по развитию пушного промысла заключалась только в скупке мехов. Расчеты со сдатчиками пушнины часто осложнялись отсутствием на местах необходимых товаров. Тем не менее, стремясь увеличить заработок, охотники увеличивали давление на природную среду. Усиленная добыча отрицательным образом сказалась на состоянии запасов пушных животных. Уже в первые советские десятилетия повсеместно отмечался упадок пушного промысла из-за увеличения объема добычи, улучшения качества огнестрельного оружия. Имелись и другие причины. Так, резкое уменьшение популяции лисиц произошло вследствие применения недоброкачественного японского стрихнина (ГАМО. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 5. Л. 222об.).
Коллективизация положила конец экономической самодеятельности коренного населения в сфере пушного промысла. С 1930-х гг., при переходе к плановой экономике, органы власти стали уделять этой отрасли большое внимание, так как пушнина давала государству валютные поступления, необходимые для ускоренной индустриализации. Длительное время северные колхозы выполняли государственные задания только по поставкам пушнины, остальные отрасли были направлены главным образом на самообеспечение.
В Охотско-Колымском крае промысловые угодья располагались в континентальной части региона, в бассейнах крупных рек и их притоков. Основными объектами добычи, как и прежде, здесь были белка, горностай, в меньшей степени – лисица. На Чукотке наиболее удобные охотничьи места располагались вдоль морского побережья и крупных лагун, в речных долинах, по берегам крупных озер. Здесь обитали песец и лисица, на которых шла основная охота. Добыча таких животных, как волк, росомаха, белый и бурый медведи, заяц, стояла на втором плане (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 93. Л. 54, 55).
В береговых селениях были организованы фактории, кооперативы и приемные пушные пункты. Для того, чтобы коренные жители понесли пушнину на обмен в эти вновь организованные структуры советской власти, нужно было заинтересовать их продажей соответству- ющих товаров, которые в этот период у ответственных работников получили наименование «туземный ассортимент». Наиболее востребованными были кухонная утварь (кастрюли, котлы, чайники, чашки и блюдца, ножи), ружья и боеприпасы к ним, продукты (табак, кирпичный чай, галеты). В первые годы советской власти пушные заготовки на Крайнем Северо-Востоке, в особенности на Чукотке, выполнялись с большим трудом именно из-за недостатка товаров этого ассортимента.
Попытки государственной власти интенсифицировать пушной промысел в 1930-е гг. сталкивались с рядом материальных, организационных и инфраструктурных ограничений. Охота на основных пушных зверей – песца и лисицу – велась главным образом с помощью капканов. Для того, чтобы зверь посещал места, где выставлены капканы, необходимо с поздней осени раскладывать там подкормку. На подкормку шли отходы туш морских животных и, в некоторых случаях, оленей. Таким образом пушных зверей, склонных к широким миграциях, закрепляли на ограниченных промысловых угодьях. Охотники на промысле нуждались в отапливаемых жилых помещениях, где они могли ночевать и пережидать ненастье. Также охотникам нужны были продукты и корм для собак, на которых они объезжали угодья. На всех этих направлениях постоянно выявлялись существенные недостатки, что вело к срыву планов пушных заготовок.
Завозились капканы низкого качества, со слабыми пружинами, отсутствовала подкормка, недостаточно было охотничьих избушек в местах промысла, снабжение охотников не отвечало их требованиям: «Капканы такого качества, что зверь из них бежит, и справедливо ругаются охотники, считая нас в этом отношении бессильными»; «Песца не подкармливали, и он ушел в тундру... Отсутствие охотизбушек также сказалось на ходе охоты. Песец ушел в тундру. Были бы избушки, это дало бы возможность охотникам углубляться в тундру, а при отсутствии их уходить далеко от своей яранги охотник не решается. Строительству избушек не придали того значения, которое оно заслуживает. О снабжении. В ряде точек нет сахара, керосина, угля. Из-за этого охотник не может оставаться долго на охоте даже при наличии охотизбушек. Просидит он в такой холодной избушке день и бежит в ярангу отогреваться» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 22. Л. 10, 18, 19).
На Охотском побережье в торговых организациях зачастую нельзя было приобрести теплую одежду, валенки для промысловиков. Из-за нехватки продуктов охотники в самых острых случаях были вынуждены забивать ездовых оленей, на которых они объезжали участки. Как отмечали партийные руководители, «на этой почве и недоразумения в том, что пушнина не отоваривается … Вопрос о жизни охотников, о создании им условий для лучшей охоты заслуживает особого внимания» (ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 14. Л. 27).
Большие убытки обеим сторонам приносило низкое качество песцового меха, причиной чему стало вскрывшееся отсутствие навыков обработки у охотников-промысловиков, прежде всего чукотских: «В охотсезон 1937/38 г. … к сожалению, качество песца чрезвычайно низкое [из-за] … отсутствия знаний у охотников о правильности съемки, правки, сушки и обезжиров-ки шкурки»; «Охотники Чукотки, сдавая пушнину, ежегодно теряют более 100 тыс. руб. из-за неумения правильно обезжиривать и правильно снимать шкуру зверя. Пушная контора на этом деле теряет не меньше, а еще больше. Если же сюда, на Чукотку, завести специалистов-пушников и обучить охотников, как нужно снимать и обезжиривать, то только одно это мероприятие повысит ценность нашей пушнины на 10–15%» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 38. Д. 19, 37); [3].
В целом в довоенное время пушной промысел развивался в инерционном русле, заданном предшествующими историческими обстоятельствами, поэтому некоторые руководящие работники уже во второй половине 1930-х гг. пришли к выводу о необходимости замены охотничьего промысла разведением пушных зверей в клетках: «Нам нужно уже перейти от простого сбора хвостов пушнины к правильному культурному звероводству. Включить в план капстроительства зверопитомники по разведению черно-серебристой лисицы и голубого песца в Марковском или Восточно-Тундровском районах. Организовать колхозное звероводство белого песца» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 38. Л. 37). Однако наступившая война отодвинула реализацию этих планов.
В годы Великой Отечественной войны промысловая пушнина Крайнего Северо-Востока опять вышла на первый план местного традиционного природопользования по приносимой валютной выручке, которая шла на поддержку сражающейся страны: «На чукотскую пушнину государство покупает вооружение – танки, самолеты и цветные металлы». Был выдвинут лозунг «Дать как можно больше пушнины нашей родине для разгрома коварного врага – немецкого фашизма» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 97. Л. 62). Колхозы и совхозы получили оборонное задание по добыче и сдаче пушнины государству. На повестке дня стояла задача мобилизовать на промысел как можно больше представителей коренного населения, включая подростков и женщин: «Надо привлекать новый круг охотников и уже сейчас это мероприятие себя оправдало. Белку и женщина может промышлять. Так мы и сделали в результате [на конец января 1942 г.] вместо 5 тысяч белок имеем 8 тысяч. … Участие школьников старших классов в этом большом деле [необходимо]. Каждый школьник должен иметь капканы» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 97. Л. 18, 62). Кроме того, привлекались пастухи оленеводческих бригад, которые в свободное от дежурства время выставляли и проверяли капканы.
Инфраструктурные и организационные задачи перед отраслью стояли все те же: привлечение новых промысловиков, расширение зоны подкормки зверя, строительство избушек, снабжение продуктами и инвентарем. В сезон 1942/1943 гг. на Чукотке насчитывалось 1400 охотников, и этого было недостаточно для опромысливания огромной территории. Дело осложнялось тем, что в оленеводческих колхозах Чукотки некоторые бригады охотников вели промысел, кочуя вместе со стадами, с семьями, перевозя громоздкие яранги. Такой образ хозяйствования ограничивал их мобильность, сковывал движение по охотничьим угодьям. Ставилась задача придать таким охотникам бытовую самостоятельность, обеспечив их палатками и железными печами (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 7. Л. 24).
Также охотники были недостаточно обеспечены орудиями лова на песца и лисицу, в среднем у промысловика имелось по 27 черканов и 7 капканов, что было крайне мало (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 8. Л. 48об.). Не у всех охотников было мелкокалиберное оружие на белку, а имеющиеся ружья в значительной мере были старыми, с изношенными стволами. Также не хватало патронов. Поэтому в охоте на белку стали применять петли, плашки и даже луки. На местах организовали перезарядку мелкокалиберных патронов (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 12. Л. 3об.).
Наряду с этим, многое зависело от добросовестности самих промысловиков. Зачастую они вели промысел «старыми методами»: «… Имеется немало случаев, когда песца отстреливают. Отсутствует всякая борьба за качество пушнины» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 54. Л. 6, 48). Некоторые охотники ставили капканы, не слезая с нарты, эффективность таких ловушек была низкой (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 4. Д. 7. Л. 9об.). Промысловики Охотско-Колымских колхозов (Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский районы) не проживали постоянно в местах промысла, а очень часто возвращались в село. Промысел они вели не так интенсивно, как того требовали производственные планы: вместо 30–40 капканов ставили лишь 5–8, а также, по давно сформировавшейся привычке, настораживали несколько самострелов, что было запрещено законом (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 4. Л. 38об.). Все эти факторы приводили к нестабильным результатам промысла.
В 1950-х гг. на заготовку пушнины на Чукотке ежегодно выходило около 1,3 тыс. промысловиков, а в Охотско-Колымском крае – около 300 чел. (ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 64. Л. 31). При этом пушные заготовки оставались единственным видом государственных заготовок коллективных хозяйств. В 1951 г. правительство повысило заготовительную стоимость пушнины в 2 раза, что увеличило заинтересованность охотников в результатах промысла (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 455. Л. 49). Также проводились мероприятия, призванные увеличить поголовье зверя: запрет добычи на определенный срок и завоз привозной пушной фауны для размножения [7].
К концу 1950-х гг. возможности развития пушного промысла в значительной мере были исчерпаны. Ожидаемого восстановления основной дикой фауны не наступило. Промысловая инфраструктура развивалась слабо, так как требовала больших затрат и модернизации, на которые у колхозов не было средств. Выявились демографические проблемы: шло старение кадров охотников, уменьшалось число промысловиков-профессионалов. Молодежь не спешила пополнять ряды промысловиков, в связи с чем контингент кадровых охотников постоянно уменьшался.
В 1960-х гг. число промысловиков значительно снизилось – на Чукотке на охоту выходило немногим более 900 чел., в Охотско-Колымском регионе – около 200 чел. Большое значение для развития этой отрасли хозяйства приобрел личностный фактор. Основными кадровыми промысловиками в эти годы и в дальнейшем являлись те коренные жители, для которых охота составляла неотъемлемую часть их образа жизни. Из-за отсутствия притока людей новые промысловые угодья практически не осваивались. Охотники не уделяли внимания средствам пассивного лова (настораживание пастей на песца и лисицу, черканов на горностая), навыки изготовления этих орудий молодежь осваивала неохотно, надеясь на огнестрельное оружие и привозные капканы (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 851. Л. 36).
В 1970-х гг. планы заготовок промысловой пушнины из года в год не выполнялись. Причиной такого положения, как видно из документов, являлось отсутствие у руководителей хозяйств «желания заниматься этим делом», о чем некоторые откровенно и говорили (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 310. Л. 13). Действительно, в совхозах, нацеленных на постоянное достижение планов развития таких ресурсоемких отраслей, как оленеводство, рыболовство и морской зверобойный промысел, пушная охота отходила на задний план. К тому же требовалось внимание к альтернативной отрасли – клеточному звероводству. В итоге промысел, по сути, был отдан «на откуп» самим охотникам, в рядах которых оставались самые опытные профессионалы. За счет своих навыков и упорства они могли добиться успеха даже в сложной обстановке.
Для менее опытных людей охота была хлопотным и затратным занятием, успех в котором зависел от многих факторов, а доход отнюдь не был гарантирован. Поэтому многие молодые люди из числа коренного населения предпочитали трудовую занятость со стабильным заработком, организация которой находилась в ведении совхоза, а не являлась в значительной степени личной инициативой работника: «Не идет молодежь в охотники. Все больше к технике тянется. Тот трактористом, тот шофером, тот дизелистом становятся» [6].
В позднесоветский период быстрыми темпами менялся и этнический состав промысловиков: на смену коренным жителям приходили приезжие. В центральных районах Колымы уже в 1960-х гг. до 60% пушнины поставляли охотники-любители, промышлявшие вблизи населенных пунктов [2, c. 210], как правило, не коренные, а приезжие жители. Существенную роль в стагнации пушного промысла сыграли крайне низкие закупочные цены, даже после их повышения в 1965 и 1968 гг. Средние цены шкурок промысловой пушнины в 1969 г. составляли: белка – 2 руб. 50 коп., лисица – 18 руб., выдра – 34 руб., ондатра – 1 руб. 10 коп., горностай – 4 руб. 50 коп., заяц – 70 коп., соболь – 37 руб., песец – 36 руб. (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 917. Л. 108). В результате доходы от промысла почти не превышали расходы и пушной промысел находился в разряде убыточных отраслей [9, с. 127].
В позднесоветское время в сфере охоты, в отличие от других традиционных отраслей, проявились теневые рыночные отношения. Часть шкурок охотники не сдавали заготовительным организациям, как были обязаны по договору, а продавали частным лицам или же расплачивались ими за оказанные услуги бартером: «Порой администрация некоторых совхозов ставит промысловиков в такие неблагоприятные условия, что им приходится идти на сделку с собственной совестью и расплачиваться ценными шкурками со случайными людьми за помощь, которую обязана оказывать им администрация. … и дрова на свой участок, и приману, и продукты ему [промысловику] пришлось завозить «с оказией». Конечно же, не за здорово живешь» [8].
В конце 1980-х гг. руководители Чукотского округа вынуждены были признать плачевное положение дел в отрасли: «К сожалению, охота в округе практически не развивается. Среди охотников Анадырского, Билибинского, Шмид-товского районов лиц коренных национальностей насчитываются единицы» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 22. Д. 1. Л. 37); «Мы в округе имеем, по всей вероятности, самое отсталое охотничье хозяйство в республике. Недоопромышляются массовые виды пушных зверей. Объемы заготовок песца…, к примеру, в сравнении с послевоенными годами снизились в 2 раза… С каждым годом уменьшается приток в отрасль лиц местной коренной национальности» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 22. Д. 3. Л. 55). Так же дела обстояли и в центрально-колымских районах. Руководители видели выход в создании госпромхо-зов (государственных промысловых хозяйств), но эти планы уже не могли быть воплощены в жизнь.
В период перехода к рынку были разрушены механизмы, которые позволяли существовать охотничьему хозяйству. Прежде всего это касается плановой системы организации промысла
(снабжение оружием, боеприпасами, капканами, продуктами питания, заброска и вывоз охотников на участки). Отмена государственной монополии на пушнину и обязательную ее сдачу государству ликвидировали существовавшую систему закупок и реализации всех видов пушнины. Перестали функционировать пушно-меховые базы, холодильники. В связи с этим состояние охотничьего хозяйства приобрело кризисные черты. Это выразилось в резком спаде объемов добычи, возросших масштабах браконьерства, сужении рынков сбыта.
В постперестроечное время пушная охота стала уделом лишь немногих коренных жителей, которые занимаются ею попутно, в местах рыболовства или кочевания с оленьими стадами. Связано это с крайне дорогим оборудованием и расходными материалами, необходимыми для ведения промысла. Теперь, когда все затраты лежат на самом промысловике, охота не приносит прибыли или же эта прибыль незначительна. Ориентация на внешний спрос, на рынок, которая была присуща пушной охоте в досоветское время, вновь вышла на первый план в рамках нового постсоветского строя. Пушная охота стала сугубо рыночной отраслью, требующей больших организационных и финансовых затрат, поэтому круг охотников крайне ограничен.
Органы власти областного и окружного уровней, стремясь решить проблему угасания пушного промысла радикальным путем, пришли к выводу о целесообразности компенсировать его клеточным звероводством. В послевоенный период эта инициатива по отношению к региону Крайнего Северо-Востока получила поддержку центральных структур. Внедряемая инновация шла вразрез с характером традиционного природопользования и менталитетом коренного населения, которое имело опыт взаимодействия с животными только в естественных ландшафтах, а не в искусственно созданной среде. В то же время, в условиях плановой экономики, данная новация призвана была решить ряд задач экономического и этносоциального характера, накопившихся в регионе.
Разведение пушных зверей должно было способствовать росту рентабельности коллективных хозяйств за счет гарантированного поступления большой массы пушнины в противовес непредсказуемым результатам вольного промысла. Считалось, что залогом окупаемости отрасли станет дешевая кормовая база в виде продукции морского зверобойного промысла. Этим, кроме того, достигалась полезная утилизация отходов от разделки морских животных: «Благодаря звероводству мы можем превратить малоценную продукцию в дорогой товар – пушнину» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 283. Л. 84).
Второй важнейшей задачей стало трудоустройство большого числа коренных жителей, в первую очередь женщин, которые после социалистического переустройства оленеводческой отрасли стали «лишними» работниками в тундре и переселились в поселки. Здесь многие из них не могли найти работу, что обусловливало низкий уровень жизни их семей и другие социальные проблемы: «С созданием центральных усадеб колхозов в них появилась полностью незанятая в общественном производстве рабочая сила, особенно женщины» (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 21).
Таким образом, во главу угла ставились два основных фактора, на которых должно было базироваться успешное развитие отрасли: наличие свободных рабочих рук и богатых пищевых ресурсов. В звероводческих хозяйствах Чукотки планировалось достигнуть поголовья основного состава в 15 тыс. зверей (серебристо-черных лисиц, песцов и норок), что принесло бы ежегодный доход в 30–40 млн. руб. (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 763. Л. 27). Для сравнения, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. совокупный доход колхозов Магаданской области (включая Чукотку) от сдачи промысловой пушнины составлял лишь 3 млн. руб. в год (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 21). Неудивительно поэтому, что вышестоящие органы сделали ставку на эту отрасль.
Первая звероводческая ферма в регионе была организована в 1951 г. в колхозе «Имени Сталина» Ольского района (Магаданская область) (с. Бараборка). Постановление правительства об организации зверофермы правлением колхоза было воспринято с большим нежеланием. Колхозники длительное время отказывались строить клетки и принимать животных, приготовленных в Хабаровске к отправке (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 29. Л. 11). Все же открытие зверофермы состоялось, в 1951 г. сюда завезли 32 головы серебристо-черных лисиц, а годом спустя впервые в регионе был получен приплод в 28 голов. В 1953 г. приплод составил уже 52 головы (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 5. Д. 9. Л. 47). Далее зверофермы были созданы в других колхозах Ольского и Северо-Эвенского райо- нов: «Рассвет» (с. Тауйск), «Пробужденный Север» (с. Армань), «Путь Ленина» (с. Гарманда), «Путь Севера» (с. Тополовка), «Рассвет» (с. Камешки).
К 1955 г. в Магаданской области (включая Чукотку) насчитывалось 11 звероферм, на которых содержалось около 700 голов зверей. Становление отрасли шло трудно. Из-за необеспеченности кормами зверей часто приходилось кормить олениной – так, в 1957 г. в колхозе «Рассвет» (с. Тауйск) на питание лисиц израсходовали около 3 тонн оленьего мяса. В годы, когда и люди вдосталь не видели мяса, это было не только нерентабельным, но и неэтичным. На звероферме колхоза «Пробужденный Север» (с. Армань) кормление зверей велось нерегулярно, не соблюдался рацион питания, нередко пища готовилась некачественно. Лисицы жили в загрязненных клетках, очистка их меха производилась редко. В итоге качество шкурки – прямой показатель того, как содержатся звери – было неудовлетворительным, пушнина сдавалась низким сортом («цветом») [9, с. 130].
Хозяйства были карликовые, затратные, приносили только убытки. В этот период развернулась борьба между партийными и хозяйственными структурами разного уровня вокруг судьбы пушного звероводства. Руководители на местах считали, что обеспечить рентабельность этой отрасли не получится, поэтому всячески саботировали ее развитие. В верхах, напротив, были уверены, что успех придет в результате укрупнения ферм (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 22, 47). Увеличение масштабов звероводства шло преимущественно под нажимом сверху, директивным путем.
В 1958 г. в регионе имелось уже 25 звероферм, но основное поголовье составляли лишь 1359 серебристо-черных лисиц и 60 голубых песцов. Таким образом, численность зверей на одно хозяйство не увеличилась, а уменьшилась. Низким был деловой выход щенят на 1 самку (1,2 щенка вместо плановых 2,1) (ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 283. Л. 83). В это время уже выявились негативные явления, которые станут характерными для отрасли на протяжении всего периода ее существования. Несмотря на оптимистические предположения о вовлечении женщин в звероводство, фермы постоянно испытывали нехватку кадров, а имеющиеся работники зачастую проявляли некомпетентность и халатность в работе. Это влекло за собой отсутствие надлежащего ухода за животными, ча- стые перебои в кормлении, неправильное кормление, витаминное голодание. Плохие условия содержания зверей усугублялись строительными недоработками: клетки и гнезда строились с отступлениями от проектов, были тесными, ненадежными, зимой заносились снегом. Остро стояла проблема снабжения звероферм кормами, в первую очередь белковыми.
Руководители региона, между тем, настаивали на дальнейшем развитии звероводства, поскольку требовалось постоянно увеличивать поставки государству золота и пушнины, а промысел дать эти объемы не мог. Вину за недостатки они возлагали на руководителей среднего и низового уровня: «Особенно много безобразий у нас в клеточном звероводстве. Неудачи с клеточным звероводством – это результат упорного нежелания руководителей колхозов по-настоящему заняться этой отраслью, непонимания ими значения звероводства в настоящих условиях. [Мы] … не сумели преодолеть явную недооценку этой важнейшей, перспективной отрасли хозяйства со стороны правлений колхозов и сельских первичных партийных организаций» (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 2. Д. 1. Л. 81); «Хорошо будет поставлено клеточное звероводство тогда, когда мы к нему будем относится так, как в центральных районах относятся к развитию кукурузы» (ГАМО. Ф. П-39. Оп. 5. Д. 29. Л. 63).
В 1960-е гг. окончательно оформилась программная линия руководства региона, обосновывающая необходимость развития клеточного звероводства. Сущность ее заключалась в том, что экономические приоритеты смещалась от традиционных отраслей к новационным – пушной промысел давно снизил показатели, а теперь к пределу экономического роста подходила такая важная и «старая» отрасль, как оленеводство: «Слабо опромышляются охотничьи угодья. Сократилась сдача промысловой пушнины. Мы выполняем планы заготовок пушнины за счет домашнего звероводства. Все, что дает весь Чукотский округ [за счет охоты], дает один Магаданский зверосовхоз. …Оленеводство в росте доходов исчерпывает свои возможности. Для того, чтобы экономически наши колхозы росли неснижающимися темпами, мы должны овладеть природными богатствами наших морей. Сделать морской зверобойный промысел высокодоходным, а на его основе развить крупное и прибыльное клеточное звероводство» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 953. Л. 42, 170).
В итоге был взят курс на дальнейшее укрупнение звероводческих ферм в рамках существующих коллективных хозяйств, а также на специализацию некоторых хозяйств именно на этой отрасли. Хорошим примером достаточно успешного развития стал специализированный зверосовхоз «Магаданский», созданный в 1960 г. в пригороде областного центра. Совхоз был одним из крупнейших поставщиков пушнины в стране, за время своего существования сдав государству более 40 тыс. шкурок норки и голубого песца, из которых одна треть ушла на экспорт. Карликовый колхоз «Пробужденный Север» был преобразован в звероводческий совхоз «Арманский», специализировавшийся на разведении норки. На территории Чукотского округа специализированные звероводческие структуры не создавались, хотя кормовая база здесь была гораздо более обильной, нежели в Приохотье. Здесь в результате укрупнения хозяйств к началу 1970-х гг. осталось лишь 10 звероводческих ферм (против 25 в 1960-х гг.) с общим поголовьем 5,7 тыс. животных (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 990. Л. 7).
Однако в рамках комплексной экономики, совмещавшей звероводство с другими отраслями, определенную эффективность удалось достигнуть лишь небольшому числу хозяйств. В Охотско-Колымском крае единственным таким хозяйством был колхоз «Рассвет» (Ольский район). При этом рентабельность и у них была невысокой – в 1960-х гг. себестоимость шкурки голубого песца составляла 46 руб. 49 коп., серебристой лисицы – 73 руб. 37 коп., тогда как цена их реализации – соответственно, 58 руб. 20 коп. и 83 руб. 24 коп. (ГАМО. Ф. П-16. Оп. 8. Д. 368. Л. 21). Другие же коллективные хозяйства несли только убытки: так, в колхозе «Герой Труда» (Чукотский район) себестоимость шкурки составляла 112 руб., а реализационная цена всего 27 руб., в итоге звероводство приносило доход 20–25 тыс. руб., а затраты составляли 75–80 тыс. руб. (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 992. Л. 138, 139).
В позднесоветское время масштаб клеточного звероводства на Крайнем Северо-Востоке возрос. Однако те проблемы, которые выявились изначально, не исчезли. Наиболее остро стояли две из них: снабжение кормами и полноценный уход за животными. Время показало, что два главных условия, заложенные в основу отрасли, – «рабочая сила и кормовая база» – не сработали. Основное поступление туш морских животных в колхозах Чукотки в позднесовет- ский период достигалось за счет покупки китов, добытых сторонними организациями, тогда как собственный промысел лахтака, нерпы, белухи сокращался [4; 5]; (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 325. Л. 12). На Охотском побережье собственная морская охота совхозов угасала еще более быстрыми темпами. Развитию кормовой базы препятствовал также низкий выход продукции из-за отсутствия технологического оборудования по разделке ластоногих (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 605. Л. 11).
Но и при достаточном количестве продукции морского зверобойного промысла сохранить ее на длительное время не удавалось из-за отсутствия холодильных емкостей. Использование же для этих целей природных холодильников – ледников – не являлось решением проблемы, так как в них нельзя было поддерживать стабильную температуру, мясо и жир окислялись, что часто приводило к болезни и даже гибели зверей из-за отравления. Поэтому допускались частые перебои в кормлении, витаминное голодание зверей. Особенно остро эта проблема вставала в теплое время: «Повышение производительности труда и снижение себестоимости [клеточной] пушнины наталкивается на систематические перебои с кормами, особенно весной. <…> это приводит к непоправимым нарушениям в рационах кормления зверей в самый ответственный период щенения и выращивания молодняка» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 14. Д. 1. Л. 71). Руководители некоторых хозяйств даже скармливали животным незаконно выловленную рыбу лососевых пород, оленину и говядину. В некоторых случаях для спасения зверей дирекция была вынуждена завозить корма самолетами (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 905. Л. 53). Себестоимость шкурок при этом возрастала в разы.
Вплоть до конца 1980-х гг. клеточное звероводство рассматривалось как одна из главных сфер приложения труда местного коренного населения, в первую очередь женщин. Однако работа в звероводстве оказалась малопривлекательной из-за преобладания тяжелого физического труда при кормлении и уходе за животными. Вопреки ожиданиям зверофермы постоянно испытывали недостаток кадров. В большинстве совхозов для развития клеточного звероводства не было ни специалистов, ни зоотехнической службы. Передовые хозяйства начали привлекать к работе опытных специалистов из Приморья и Хабаровского края. Именно благодаря их работе достигли хороших показателей тауйский совхоз «Рассвет» и зверосовхозы Колымы. Аналогичным образом стали поступать и на Чукотке: так, в середине 1960-х гг. в колхозе «Маяк Севера» Провиденского района успехов добилась зверовод Тамара Максимова, которая получила по 7,8 щенка от самки песца, и супруги-звероводы Карповы – по 3,4 щенка от штатной самки серебристо-черной лисицы (ГАМО. Ф. П-891. Оп. 3. Д. 63. Л. 19). Таким образом, ставка на коренных жителей оказалась не вполне оправданной, большую часть специалистов и работников звероферм составляли приезжие жители.
В 1970-х – 1980-х гг. основное поголовье пушных зверей Магаданской области было сконцентрировано в специализированных зверосовхозах «Магаданский» и «Арманский», а в совхозном секторе рентабельной была лишь звероферма совхоза «Рассвет» – одна из лучших в Магаданской области, включая Чукотку. В Северо-Эвенском районе к концу 1970-х гг. из-за хронической убыточности были ликвидированы все зверофермы (ГАМО. Ф. П-15. Оп. 12. Д. 122. Л. 28). В 1970-х гг., после длительных неудач, хороших результатов достигла ферма совхоза «Имени Ленина» (Чукотский район), руководители которой, опираясь на опыт колымчан, вызвали специалистов из других регионов, установили холодильники, усовершенствовали кормокухню. Здесь удалось наладить прибыльную работу отрасли и добиться самого высокого на Чукотке показателя делового выхода щенят – 5,1 (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 325. Л. 10). Другие зверофермы Чукотки до конца советского периода оставались планово-убыточными.
В то же время следует отметить парадоксальный в рамках плановой экономики расцвет частной инициативы в сфере клеточного звероводства. С конца 1970-х гг. в частных хозяйствах некоторых сел, расположенных недалеко от областного центра, началось интенсивное разведение песцов. Оно стало своего рода «подсобным хозяйством», которое приносило большой доход, так как шкурки песцов пользовались спросом, их цена на стихийном городском рынке (так называемые барахолки) достигала 350 руб.
Этот всплеск частного предпринимательства серьезно беспокоил партийные органы: «Песцовое хозяйство растет с каждым годом. Расходы на 1 песца составляют 115 руб. 69 коп. Доход от продажи 300–350 руб. Чистая прибыль – 200–234 руб. Выгода очень большая, но не для государства, все шкурки песцов ре- ализуются на рынке по спекулятивным ценам» [9, с. 132]. Многие местные жители направили свои усилия на выращивание песцов, что усугубило нехватку продуктов в сельских магазинах, так как для получения высококачественного меха песцам требовался дефицитный для того времени рацион: «…В среднем на одного песца в день требуется мяса 240 г, крупы – 60 г, молока – 42 г, овощей – 72 г, дрожжей – 6 г, мясокостной муки – 6 г и витамины» [9, с. 132]. Соответственно, для выкармливания животных «песцеводы опустошают прилавки магазинов, скупают для зверей свежее молоко, крупы, дешевую рыбу, мясо, воруют при возможности корм из совхозных звероферм». В селе Армань, например, из четырех ежедневно привозимых в магазин бидонов молока один раскупался для песцов. К тому же песцеводство ухудшало и без того не идеальное санитарное состояние приморских сел: «Летом невозможно открыть форточки из-за мух, вони и криков песцов». Всего в те годы частники содержали более 60 тыс. песцов, «песцовая болезнь» стала настоящим бедствием для поселков Охотского побережья от Талона до Армани. Партийные работники усматривали в этой «болезни» и моральную сторону: «…А самое главное, что люди перестают быть людьми, все жизненные интересы их сводятся к песцовой клетке» [9, с. 132]. Содержали песцов в основном семьи некоренного происхождения, а также те, в которых лишь один из супругов был неаборигеном. В 1980-х гг. выделанные шкурки продавали в г. Магадане по цене уже 400–450 руб. Это сразу позволяло семьям песцовых заводчиков хорошо одеться, купить бытовую технику, мебель.
Данная парадоксальная ситуация стала результатом скрытого действия элементов рыночных отношений. Основу для них составили два фактора. Во-первых, близость крупного города – областного центра со значительным количеством населения, занятого высокооплачиваемым трудом. Оно сформировало повышенный спрос на меха и готово было платить за них цену гораздо выше той, которая существовала в рамках плановой экономики. Во-вторых, заводчики пушных зверей воспользовались низкой стоимостью продуктов, которая была характерна для позднесоветского времени. Дешевая кормовая база обеспечивала высокие доходы для частников. С переходом к рыночным механизмам развития экономики этот частный «бизнес на зверях» полностью прекратился.
К середине 1980-х гг. усилия, направленные на улучшения положения дел в клеточном звероводстве совхозов, стали давать некоторые плоды. Возросла добыча морских зверей для нужд отрасли, увеличился деловой выход щенят пушных зверей. Выездные бригады оказывали на местах техническую помощь. Для совхозов Чукотки в 1985–1987 гг. было изготовлено 40 тележек для раздачи кормов на зверошедах, оказана практическая помощь в изготовлении рельсовых дорог на зверофермы. Проводился ремонт мясорубок, строгальных и мездрильных машин. Специалисты даже разрабатывали специальные подошвы для обуви звероводов.
Однако к концу советского периода выявилась инфраструктурная слабость отрасли, как это было и с пушной охотой. Материальная база отрасли оставалась довольно примитивной. Многие технологические процессы (поение, кормление, чистка клеток) приходилось выполнять вручную. В конце 1980-х гг. руководители вынуждены были признать: «…На звероводческих фермах практически нет механизации, не обеспечивается их стабильная работа, повышается себестоимость пушнины» (ГАМО. Ф. П-22. Оп. 22. Д. 1. Л. 37). Также в хозяйствах плохо была поставлена племенная работа, что приводило к родственному скрещиванию. Зверофермы из года в год получали крайне низкий деловой выход щенят – на 1 штатную самку в среднем приходилось по 1,6 деловых щенка лисиц, 2,3 – голубых песцов, 2 – норок.
Качество сдаваемой пушнины оставалось низким, во многом из-за ржавления клеток, вследствие чего песцовый мех загрязнялся и терял качество. Но даже полученные шкурки хозяйства не могли хорошо обработать из-за отсутствия мастерских, современных механизмов и инструментов. В результате себестоимость шкурки нередко превышала ее сдаточную цену. Так, себестоимость шкурки песца в совхозе «Имени 50-летия Октября» (Чукотский район) варьировалась в диапазоне от 330 до 650 руб., что было в 5–10 раз больше сдаточной цены (ГАМО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 325. Л. 90). Вследствие всех этих причин многие зверофермы несли большие убытки, в целом отрасль была нерентабельна. Даже хозяйства, добившиеся неплохих показателей, не только не вышли на уровень рентабельности, но понесли убытки выше плановых.
Таким образом, клеточное звероводство на Крайнем Северо-Востоке представляло собой искусственно внедренную инновационную отрасль, призванную заменить традиционную пушную охоту. Большинство звероводческих ферм приносили лишь убытки, давая гораздо меньший против ожидаемого выход продукции, качество которой было невысоким. Более успешно действовали лишь отдельные предприятия за счет, во-первых, достижения крупного поголовья зверей, во-вторых, создания более удовлетворительной материально-технической базы и, в-третьих, привлечения к работе не местных жителей, а приезжих специалистов. Экономически данная отрасль основывалась, с одной стороны, на поддерживаемых государством низких ценах на продовольствие, с другой – на концепции развития социалистического аграрного сектора, которая допускала существование в хозяйствах планово-убыточных отраслей, если они имели большое социальное значение. С переходом к рынку оба эти «кита» рухнули, что стало причиной полного исчезновения на Крайнем Северо-Востоке России клеточного звероводства.
Список литературы Этнокультурные сдвиги в традиционном природопользовании крайнего северо-востока: от пушного промысла к клеточному звероводству
- Бацаев И.Д. Сельское и промысловое хозяйство Северо-Востока России 1929-1953 гг. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997.
- Бацаев И.Д. Очерки истории Магаданской области (начало 20-х - середина 60-х гг. ХХ в.). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2007. EDN: QPIYIX
- Козлов Ю. Весомая прибавка // Советская Чукотка. 1979. 19 января.
- Коломиец О.П. К истории развития морского зверобойного промысла на Чукотке // Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки". 2019. № 3. С. 223-231. EDN: PDJZSK
- Мынгынкау П. Киты живые и мертвые // Советская Чукотка. 1990. 30 октября.
- Новицкий В. Снежные тропы Армаиргина // Советская Чукотка. 1979. 25 апреля.
- Ондатры в Восточной тундре // Советская Чукотка. 1954. 23 апреля.
- Смирнов Г. Зовут охотничьи тропы // Советская Чукотка. 1979. 27 ноября.
- Хаховская Л.Н. Коренные народы Магаданской области в ХХ - начале XXI в. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2008. EDN: QPMRTF
- Хаховская Л.Н. Морские зверобои Чукотки в период первоначальных советских реформ // Этнографическое обозрение. 2012. № 6. С. 168-182. EDN: PIDRTH