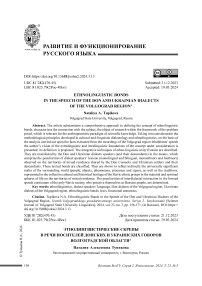Этнолингвистические скрепы в речи носителей донских и украинских говоров Волгоградской области
Автор: Тупикова Н.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций комплексного, междисциплинарного подхода обосновано понятие этнолингвистические скрепы, охарактеризована его связь с предметом и объектом исследования в рамках поставленной проблемы, которая актуальна для антропоцентрической парадигмы научного знания. С опорой на методологические принципы, выработанные в диалектологии и этнолингвистике, а также на полученные результаты анализа массива фактов, извлеченных из записей речи жителей Волгоградской области, изложено авторское видение экстралингвистических и интралингвистических оснований рассматриваемого понятия, предложена дефиниция обозначающего его термина. Описаны интегративные способы фиксации этноязыкового единства диалектоносителей, реализуемые в речи донских казаков и украинских переселенцев (их потомков) средствами, составляющими специфику лексикона диалектоносителей (монолингвов и билингвов, моноэтноров и биэтноров) на территориях смешанного проживания донских казаков и украинских переселенцев (их потомков), хохлацкого меньшинства. Дана классификация этих скреп; показано, что они опосредованно маркируют общезначимые реалии окружающей действительности (лица, предметы, явления, процессы, признаки), сложившиеся традиции, отражая коллективный культурно-исторический опыт славянских этносов в материальной и духовной сферах жизни населения. Определены особенности межъязыкового (междиалектного) взаимодействия в сформировавшемся речевом континууме полиславянского социума, представители которого осознают себя частью русского народа.
Этнолингвистика, речь диалектоносителей, донские говоры волгоградской области, украинские говоры волгоградской области, этнолингвистические скрепы, лексика, функциональная семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/149146318
IDR: 149146318 | УДК: 81’282(470.45) | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.13
Текст научной статьи Этнолингвистические скрепы в речи носителей донских и украинских говоров Волгоградской области
DOI:
Разработка проблем диалектологии с опорой на этнокультурные сведения и достижения современных междисциплинарных исследований способствует все более глубокому осознанию полифункциональной многоас-пектности национального русского языка, в котором, с одной стороны, сообщество проявляет себя «на основе единства языка как средства общения» [Филичева, 1985, с. 55], а с другой – реализует коммуникативные возможности «в реальных типах объединений носителей языка и их соотнесенности друг с другом в условиях определенной исторически сложившейся языковой ситуации» [Филичева, 1985, с. 55]. Современная диалектная макросистема, существуя в устной форме, не лишена «подвижности и изменчивости ее элементов... из-за развития средств связи, взаимодействия с литературным языком, соседними диалектами и местными языками» [Со-роколетов, Кузнецова, 2006, с. 533]. Речь диа-лектоносителей, для которой характерно совмещение элементов разных страт, изобилует явлениями интегративного порядка, что, можно сказать, прогнозирует использование своеобразных скреп, фиксирующих единое пространство общения. Особенности узуса в полиэтнических регионах, в том числе словоу- потребление диалектоносителей, требуют специального исследования с учетом того, что в освоении территорий позднего заселения, к которым относится и Волгоградская область, ведущую роль сыграли восточнославянские народы.
Получение новых данных о взаимоотношении славянских диалектов, связи «психологии народа и соответственно его культуры», как пишет Т.И. Вендина, «дает возможность понять то, что является важным для языкового сознания человека» [Вендина, 2023, с. 218, 220]. Систематизация во времени и пространстве диагностирующих признаков «диалектной дифференциации Славии» решает задачи как «создания диалектологии народной культуры славян» [Вендина, 2023, с. 219], так и дальнейшего развития этнолингвистики, которая ориентирована на изучение различных сторон повседневных материально-бытовых занятий населения в комплексе с духовной составляющей, анализ диалектной вариативности, описание языка и культуры сообществ, испытавших влияние контактных традиций [Брысина, 2018; Власкина, Архипенко, Власкина, 2009; Харламова, 2009].
Смысловая составляющая речи диалек-тоносителей, отражая результаты практического освоения материального мира и ценностные приоритеты народа, в первую очередь, детерминирована целями, лежащими за пределами продуцирования высказываний (экст-ралингвистические факторы). Однако в конечном счете ее важнейшая роль заключается в формировании непротиворечивой узуальной («физической» и культурной) среды взаимодействия представителей сложившегося континуума (интралингвистические факторы). Вопросы о том, какова истинная картина «языкового сознания человека традиционной духовной культуры славян со всеми ее сложностями и нюансами» [Вендина, 2023, с. 220] и какими средствами она выражается, становятся одними из главных в комплексном изучении народной культуры, народной психологии и народного языка [Березович, 2007; Ильина, 2015; Киклевич, 2020; Королькова, 2020; Крючкова, 2021; Осипова, 2023; Разина, 2018]. На базе новых достижений в данной области возможно заполнение лакун, существующих в разработке проблемы лингвистической реконструкции «портрета славянина». Обоснование понятия этнолингвистические скрепы, являющееся целью нашей работы, вписывается в парадигму научных исследований подобного рода.
Материал и методы
Этнолингвистические скрепы выделяются в процессе анализа способов употребления языковых единиц, зафиксированных в лексиконе диалектоносителей (о термине см.: [Тупикова, Стародубцева, 2023, с. 51]), который выступает основой формирования содержательно-смысловых сегментов – тем в речи (текстах) диалектоносителей и семантикосмысловых блоков – микротем, отражающих информацию об отдельных звеньях предметного, духовного мира, практического опыта человека, используется как средство выражения моделей ситуаций и детализации компонентов микроситуаций, обозначающих действия, состояния, отношения, условия, обстоятельства, положение и т. д. кого-, чего-л. [Тупикова, Стародубцева, 2023, с. 52–53]. Лексикон диалектоносителей как объект анализа представляет собой фрагмент языка региона, который квалифицируется нами по совокупности следующих признаков: общность территории распространения и исторического развития в течение длительного времени; зак- репленность в текстах, авторами которых выступают носители славянских диалектов (русского и украинского) в полиэтничном социуме; специфичность используемых узуальных средств (общезначимых, региональных) и индивидуальных способов обозначения реалий действительности в рамках сложившихся разновидностей языка и форм бытования местных говоров [Тупикова, 2008; 2013]. Учитывая влияние тенденций как дивергентного, так и конвергентного свойства, присущих любым процессам развития, следует считать актуальным выделение языковых средств, маркирующих значимые для традиционного уклада жизни носителей говоров факты и реалии, важные для организации повседневной деятельности отдельного человека и целых этнических групп населения, которая обеспечивает гармоничное существование членов коллективного сообщества на основе исторической памяти и сложившихся социально-культурных традиций межэтнического взаимодействия.
Предметом анализа является специфика словоупотребления диалектоносителей при выражении этнолингвистических скреп. В нашем понимании, диалектоноситель – носитель обиходно-бытовой речи, которая отражает общие особенности функционирования языка в его устно-разговорной, непринужденной, форме, включает региональные языковые черты, формируемые под влиянием местных говоров, а также объективных факторов социально- и культурно-исторического порядка, определяемых ключевой ролью языка титульной нации, длительным использованием диалектов в полиэтнической среде общения, межъязыковыми (междиалектными) контактами коренных жителей и переселенцев (их потомков), осуществляющих деятельность, связанную с традиционной (материальной и духовной) народной культурой.
Записи речи диалектоносителей – источник материала наблюдения – сделаны в экспедиционных условиях с помощью диалектологических методов собирания материала (интервьюирования различной степени стандартизации [Марченко, 2010]) и представляют собой фиксацию непринужденного разговора с информантами, цель которого – максимально приблизить опрос к неформальной беседе: организовать ее как воспоминание-рассказ мемуарного характера или побудить собеседника на основе прямого опроса по методу открытого опросника к продуцированию высказываний с актуальной обиходно-бытовой информацией разной тематической направленности. В отличие от анкетирования (метода непрямого опроса информантов) записи такого рода, сделанные диалектологом в процессе непосредственного контакта с носителями говоров, содержат, по мнению специалистов, наиболее достоверные данные, являются, образно говоря, репрезентацией «пульсации языка» (Тимофеев, с. 12) в живых условиях существования. На важность такого источника указывал еще Е.Ф. Карский, подчеркивавший необходимость изучения народной речи: «Конечно, все преимущества за живой речью» [Карский, 1924, с. 10].
Материал, собранный диалектологическими методами, отражает речь носителей говоров – коренных жителей (русских, донских казаков) и переселенцев (украинского / хохлацкого меньшинства, потомков переселенцев), членов русско-украинских семей в пунктах смешанного проживания населения на территориях распространения донских говоров Волгоградской области. Проанализировано более 90 аудиозаписей, разных по продолжительности в зависимости от предложенного спектра вопросов, темы беседы и характера общения информанта с диалектологом (более 5000 минут звучания).
Целенаправленный характер бесед и опрос с элементами анкетирования позволили обеспечить охват разнообразных сфер жизни на всех этапах интервьюирования (от обращения, представления и предварительной, «паспортной», части опроса до сбора основной и уточняющей информации, завершения беседы) и, соответственно, определили разнообразие языкового материала.
В работе представлен междисциплинарный подход к описанию фактов, включающий исследовательские процедуры названных выше диалектологических методов, функционально-семантического анализа, применяемого для тематико-ситуативной сегментации текстов и лексико-семантической характеристики единиц словаря, а также этнолингвистический метод, основанный на внешнем и внутреннем сопоставлении культурно-языковых явлений, маркированных в речи диалектоноси-телей «привязкой» к этносу и выраженных в этнокультурном компоненте значения лексем либо на уровне контекста, а также в элементах филологической и энциклопедической информации, вербализующей результаты материальной и духовной деятельности человека.
Результаты и обсуждение
Результаты анализа собранных фактов свидетельствуют о большой значимости сохранившихся в исторической памяти народа представлений, которые объясняются тесным соседством носителей близкородственных славянских языков (донских, то есть русских, и хохлацких, то есть украинских, говоров), и о функциональной активности соответствующих средств в речи диалектоноси-телей на территориях компактного проживания названных этнических групп населения Волгоградской области.
Обобщенная характеристика материала дает возможность рассматривать историкокультурный «контекст» как экстралингвисти-ческий фактор, который является своеобразным «триггером» полиэффекторного механизма продуцирования текстов и определяет действие интралингвистического фактора (о термине «эффектор» см.: [Ильин, 2012, с. 15, 337– 338]), обусловливающего использование этнолингвистических скреп, содержание и выражение которых имеет свою специфику.
При всей дискуссионности вопроса о происхождении казаков и времени их расселения в Волго-Донском междуречье общим является мнение о влиянии на этот процесс, прежде всего, славянских этносов – русского и украинского [Рыблова, 2017, с. 91–94; Славянская энциклопедия, 2002, т. 1, с. 372–374; Энциклопедия казачества, 2007, с. 110]. Межэтническое взаимодействие выражается в традиционной культуре (жилище, предметах обихода, одежде, пище, верованиях и др.), в диалектных особенностях речи, где определяющим стал «славянский (и в первую очередь русский) фактор» [Рыблова, 2017, с. 91], он сыграл важную роль в сложении донских казачьих сообществ, казаки сохраняли свой быт, отличающийся от быта украинского [Энциклопедия казачества, 2007, с. 458]. По свидетель-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ству историков, вольные казаки-первопоселенцы, потомки главным образом русских и украинских крестьян, бежали в конце XV в. в низовья Дона, занимали территории по берегам его притоков, а к XVI в., закрепившись в Подонье, интенсивно заселяли городки в верховьях рек Хопер, Бузулук, Медведица и Илов-ля [Луночкин, 2017, с. 269]; с XVI–XVII вв. их общины по разным причинам стали активно пополняться выходцами с Украины – украинскими и запорожскими казаками, незначительное количество которых встречалось среди донского казачества и ранее [Рыблова, 2017, с. 93; Славянская энциклопедия, 2002, т. 1, с. 372–374]. В XVIII – начале XX в., как считают ученые, вместе с вхождением земель Войска Донского в пределы Российского государства формируется этническая группа казаков в составе русского народа и развивается «их своеобразная традиционная культура» [Рыблова, 2017, с. 92]; донские казаки как этнос выделяются «самобытной традиционной культурой и языковыми отличиями» [Луночкин, 2017, с. 270].
К наиболее крупным в прошлом украинским поселениям на территории современной Волгоградской области относятся те, которые были основаны в XVIII–XIX столетиях выходцами из Полтавской, Харьковской, Черниговской и других губерний [Воробьев, 2000; Маноц-ков; Супрун, 2010; 2017; Теркулов, 2010]. Они возникали на землях донских казаков или в бывших слободах на притоках Дона (в настоящее время: Большая Ивановка Иловлинского района; Мачеха, Семёновка Киквидзенского района; Сидоры, Михайловка Михайловского района и др.). Имеются данные, что украиноговорящие жители в таких анклавах, пунктах компактного проживания, могли составлять подавляющее большинство. Примером является слобода Сидоры (село Сидоры Михайловского района), основанная Сидором Никифоровичем Себряковым в 1730 г. при освоении территории «пустопорозжего» юрта городка Кобылян-ского. В слободе в 1897 г. проживало 2 912 чел. (99 %) украинцев – купленные и беглые крестьяне из Слободской Украины (то есть «свободной, незаселенной») (см.: [Славянская энциклопедия, 2002, т. 2, с. 557]), количество русских составляло 23 чел., прочих национальностей – 10 чел. [История – село Сидоры...].
РУССКОГО ЯЗЫКА
В последние десятилетия, по мнению специалистов, украинское / хохлацкое население Волгоградской области существенно уменьшается и «находится в процессе интенсивной ассимиляции» [Супрун, 2010, с. 121– 126; 2017, с. 337], что, прежде всего, сказывается на уровне владения диалектом в среде молодого поколения, которое не всегда позиционирует свою этническую принадлежность. Определенную роль в этом играет отрицательная коннотация, ранее не наблюдаемая при использовании прозвищного самоназвания хохлы (чаще с аканьем «хахлы») не украинским населением региона. Этнический ландшафт, как известно, меняется со временем под воздействием трех основных факторов: естественного движения населения, миграции в результате внешних событий, смены этнического самосознания в смешанных браках и тем самым «рассеивания» украинского населения среди других национальностей [Лобанова, 2008, с. 364–365]. В научных работах имеются данные о значительном сокращении за постсоветский период, между переписями (1989 и 2010 гг.), численности украинцев Волгоградской области; кроме того, наметился процесс этнического возрождения: так, впервые официально зафиксирована этническая группа, называющая себя казаками [Лобанова, 2008, с. 366–367; Смирнова, 2017, с. 297].
Наблюдения, обобщенные по результатам проводимого в течение последних пятнадцати лет опроса информантов на территориях бытования донских говоров в пунктах смешанного проживания этносов, свидетельствуют о том, что представители потомков первопоселенцев, или «коренного» украинского / хохлацкого населения (переселенцев из украинских губерний XVIII–XIX вв.), и «недавние» переселенцы, их потомки, в том числе члены русско-украинских семей, билингвы, сохраняют в народной памяти и передают из поколения в поколение семейные «легенды» об освоении «пустопорозжих» земель между Волгой и Доном, в Подонье.
Например, история появления села Большая Ивановка Иловлинского района в источниках излагается так: на заросшие берега реки Бердия в начале XIX в. в поисках плодородной земли приехали с Украины купцы, два брата Иваны Пузановы, и поселились в 20 км друг от друга: старший брат Иван остался на обжитом месте, а младший облюбовал себе место выше по течению, на притоке Бердейки; впоследствии возникли два села – Большая и Малая Ивановки [Воробьев, 2000; Минх, 1900]. В рассказах опрошенных информантов – коренных жителей – действительные факты переселения переплетаются с предположениями, вымыслами и фантазиями, но почти всегда для этого имеется историко-культурная подоплека. Так, от «коренной» хохлушки мы услышали изложенную выше легенду как историю ее рода, прадедов (здесь и далее используется упрощенная транскрипция):
Наш дет Иван, вот што Иванафку назвали, по нём назвали. <...> А прошлый γот, ой прошлый, да нонешний γот. Ўот оно висной сабиралась с Ниной, ехала с Ыванафки, ну эт заγаварились, заγа-варились, она γаварит: «От, дураки, дураки, письма ни аставили». Ты скажы мне, мамка фсё γава-рить, а я фсё ни верю: «Нина, да эт наш прадэт ехал, а другой уехал в Малую Иванафку. Там Малой Иванафкай назвали». У энтава было трое дитэй. Фсё мнэ папанька расказывал....ну, он минэ расказывал: «У нас эта, знаеш, украинцы, украинцы очэнь харошиэ люди, очэн харошие люди». Ўот у нас род! (с. Большая Ивановка).
В документально-краеведческих сочинениях народные предания и подлинные сведения соединяются органично в логике изложения. В частности, известно, что большинство сел получало свои названия по прежнему местонахождению. Так, село Мачеха образовано в память о той Мачехе под Полтавой, в которой жили в середине XVII в. украинские казаки, закрепленные за 2-й сотней Полтавского казачьего полка; в материалах полтавского архива факт переселения нашел образное отражение как сравнение с действиями злой мачехи, которая выгнала своих пасынков, вынужденных уйти в другие земли и обосноваться на новом месте [Администрация...; Маноцков; Стародубцева, Цивилева, 2010]. Жители современной Мачехи по-своему соединили подтвержденные факты и малодостоверные сведения:
[А почему Мачехой село называется?] Я так насколька знаю, укрáинскае пирисиленцы, вот ка-торыи приехали <...> [Откуда приехали?] Ну, я точна ни скажу для Мачихи, но, думаю, шо с Палтаўс- кай γубернии. Вот у нас сило за речкай былó. Эта Зилёноўка. Так там выхоццы были ис Палтаўской γубернии. И ани дажэ ездили, ани большэ паддер-жывали свясь с родинай. <...> Ничево тут не былó. И зимля аказалась довольна ниприветливой для первых пирисиленцыф. Ну, чирназём-та чирназём, но дикая природа, ничиво не былó. Нада былó и с при-родай вести борьбу, а то так абжываца. Паэтаму вот и назвали, значит, Мачихай. [И в Полтавской губернии есть Мачеха] Есть и там Мачиха, и Зилё-ноўка есть там. <...> А вот речка у нас Мачиха. Тут лиγенда друγая. Тут кажут так, шо бул пирисиле-ниц, там жыл адин. Раньше на хуторах же. И вин там на хуторе там жыл. И жинка еγо там друγá была. А у йеγо была дочкá. И мачиха вот ее или утопыла, или довела до такова састаяния, што она сама уто-пылась в этай рички. И с той поры значит, и название этай рички Мачиха (с. Мачеха).
Легенды о первопоселенцах могут быть основаны на народной этимологии:
Они тут приихалы ни одни, потому шо одни они нэ можуть. Нахайловка – там 3–4 дома, γдэ я родылась. Посылылысь нахально сами соби. Они нахально, и Нахайловкой прозвали. Тоди их диты пидрослы, привизлы нивисток по хуторам, ти развылись там. А Мачиха – она фсэ-таки тут була давно, с Кубани казаки, донские казаки, былы тут и рускыи (с. Мачеха).
История компактного поселения украинцев на новой территории часто имеет характер вольной трактовки фактов с элементами достоверной информации:
Мы вапще выхаццы с Украины. Палтафская область, Харькафская, мы бальшинство Сидоры – Палтафская область, Кабылякский район. 8 симей прийехала. Из васеми симей абразавалася сило. <...> Ф Стараселье приехали. Часть людей сначала ф Стараселье жыли, а потом часть людей пирийеха-ли ф Сидоры. Так они и рассилялися, у рек, у ли-соф, γде природа баγатая, звирьйо. <...> [ А почему у вас Сидоры и Раздоры называются села? ] Эта саз-вучие проста. Сидоры – эта Сидар: у ниво Сидар, сын, Сидар (?) Сибрякоф. <...> И па Мидведицэ па-силились хахляцыйи хутара (с. Сидоры). [Изложено неточно: основал и заселил слободу украинскими первопоселенцами глава семьи, Сидор Себряков, сын которого, Михаил, позже, за военные заслуги получил земли и основал слободу на левом берегу Медведицы, дав свое имя новому поселению (слобода Михаила Себрякова, затем Ново-Михайловка) и со временем переселив туда 50 украинских семей. В 1856 г. переименована в Михайловку. – Н. Т. ]
Причины переселения представителей этносов могут излагаться говорящими в прямой связи с известными трагическими страницами истории страны:
Як папа... як их раскулачылы, папу и маму, они пожанылысь, ну, они расказують, боγато они жылы, мноγа скотыны було, и дом боγатый бул, папа жэнився на маме, ходыв на Дурный пруд за ней. И в 30-м γоду тут кулаченье, не – в 29-м начали кулачить. Йих, ну, мий дедушка и бабушка, и дядь Петя поутикалы в Донбас, а папа з мамою прийи-халы сюда в Семёноўку (с. Семёновка).
Исследуемый материал дает основания рассматривать культурно-исторический «контекст» как экстралингвистический фактор , который, отражая народную память, способствует фиксации в речи диалектоносите-лей, осознающих свою идентичность, таких особенностей межъязыкового (междиалектного) контакта групп населения, которые создают мотивационную базу специфического словоупотребления в данном полиэтническом континууме и обусловливают появление этнолингвистических скреп, выступающих способами репрезентации естественного и долговременного взаимодействия славянских этносов на одной территории, в процессе совместной материальной / духовной деятельности.
Содержание и выражение этнолингвистических скреп определяется действием ин-тралингвистического фактора – интегративности, объединения в составе высказываний элементов, формирующих семантикосмысловое пространство лексикона, в котором находит закрепление коллективный культурноисторический опыт представителей донских казаков и украинских переселенцев (их потомков) и который реализуется в единой речевой среде общения носителей говоров.
Первая часть термина этнолингвистические скрепы, обозначающего вводимое нами понятие, указывает на способ (этнолингвистический) представления содержательной стороны высказывания: соотнесенность рассматриваемых явлений с традиционной народной культурой «в ее этнических, региональных и “диалектных” формах» [Толстая, 2007, с. 110] и на главный источник средств выражения этой культуры – язык, требующий соответствующих методов интерпретации и классификации ма- териала [Толстая, 2013, с. 68–69]. Вторая часть термина (скрепы) включает слово, специальное использование которого уже утвердилось в лингвистических работах «в своем обычном значении, связанном с указанием на соединение чего-либо» [Красовская, 2013, с. 17]. Оно вызывает представление о выполняемой функции: будучи термином, принятым в деловой письменности, скрепа имеет дефиницию, в которой ключевым является сочетание на стыке (то есть на участке, где сходится что-л., пересекается): «Подпись должностного лица на стыках склеенных в столбец листов какого-л. документа» (СРЯ XI–XVII, с. 20). Сема ‘функция’ выходит на первый план при переносном использовании слова скрепы в составе рассматриваемого термина: «То, что скрепляет, соединяет, сплачивает» (СУ, т. 4, с. 237). Таким образом, речь идет о выражении в семантико-смысловой структуре терминологического сочетания этнолингвистическая скрепа семантических признаков ‘способ’ и ‘функция’.
В процессе анализа этнолингвистических скреп разграничиваются группы информантов:
-
1) представители малообразованной части населения, в основном старшего поколения (реже недавние переселенцы), которые выступают как носители донского или украинского говоров, обнаруживают в беседах недостаточное знание литературного языка титульной (русской) нации и пользуются в обиходно-бытовой речи, прежде всего, элементами своего диалекта, независимо от предлагаемого направления беседы; при этом говорящие хорошо понимают родственный славянский язык и осознают в некоторых случаях его сходство с родным или отдельные отличия;
-
2) члены русско-украинских, смешанных семей, потомки «коренных» жителей, речевое поведение которых зависит от возраста, образования, сложившихся правил общения между родителями и детьми, степени утраты связи с диалектной языковой средой (в том числе, в случаях обозримого времени миграции украинцев):
-
а) некоторые из них (активные билингвы) при изменении ситуации общения, в зависимости от предпочтений родителей, родственников, соседей, собеседников свободно переключаются с русского языка (говора) на украинский (хохлацкий говор);
-
б) другие (пассивные билингвы) в основном говорят по-русски, иногда с элементами донского говора, но в зависимости от темы беседы охотно переключаются на систему украинского / хохлацкого говора. Те и другие могут свободно объяснять, комментировать употребляемые кем-либо или существующие в практике общения лексические параллели;
-
3) жители сельских поселений, фактически утратившие связь с диалектной средой в силу образования, профессии, деятельности, семейных и брачных обстоятельств, оценки языковой действительности в координатах «культурное – некультурное», но осознающие этнические корни своих предков, что объясняет их предпочтение общаться с диа-лектоносителями (в том числе в семейном кругу) на русском языке и способность квалифицировать особенности говора в беседе с диалектологом.
Общая характеристика материала позволяет, с нашей точки зрения, говорить о том, что доминирующим средством реализации этнолингвистических скреп, фиксирующих культурно-языковое единство носителей славянских говоров (донских казаков и украинских переселенцев), выступает лексика обиходно-бытовой речи, сложившейся на русской (общеславянской) основе под влиянием устно-разговорной формы языка титульной нации и в контакте с обособленным, оторванным в своем развитии от материнской «почвы» украинским диалектом, который на территории бытования донских говоров Волгоградской области имеет признаки «разной степени сохранности» [Супрун, 2017, с. 337].
Данную особенность речи можно соотнести с тем фактом, что на современном этапе любой «диалект осложнен, “разбавлен” разного рода иносистемными явлениями» [Крысин, 2008, с. 18], к наиболее типичным сферам его использования относятся «семья и разного рода ситуации непринужденного общения односельчан друг с другом» [Кры-син, 2008, с. 18]. Когда мы говорим о реализации этнолингвистических скреп , то имеем в виду определенную специфику словоупотребления представителей славянских этносов в сложившемся речевом пространстве.
Случаи сопряжения постоянных (статусных) и переменных (индивидуальных) призна- ков этноязыковой характеристики индивидов, выявленные в процессе анализа массива фактов, дают возможность разграничить этнолингвистические скрепы, которые отмечены в текстах, отражающих речь монолингвов и билингвов.
-
1. Ключевой способ – контаминация этнонимов (их заместителей) в самоназваниях биэтноров, при которой зафиксировано использование стержневых и нестержневых средств идентификации личности, разграниченных в наших работах ранее (см. об этом: [Тупикова, Стародубцева, 2023, с. 54]):
-
а) окказиональное сочетание в словесном ряду официальных этнонимов либо официального и прозвищного этнонимов, употребляемых для самоидентификации говорящего, дифференцированное или недифференцированное противопоставление официального и про-звищного этнонимов для биэтнической характеристики диалектоносителя (первая и вторая группа информантов):
Украинка я, руская . У миня рэбята спрашы-вали, када са мной дружыли, чужые рэбята: «А какой ты нации?» <...> я им γаварила, ўoбщэм, рус-кая с украинским (с. Большая Ивановка); [ Представьтесь, пожалуйста ] Симён Трафимывич, <...> руский хахол (с. Семёновка); Уже навирно билшэ русскыми считаемся, чим уже хохлами (с. Семёновка); Я вапще хахлушка , я не казачка <...> Но вапще в паспорти у миня была украинка . Ни хахлушка – украинка (х. Дьяконовский);
-
б) соединение официального этнонима и прозвищного самоназвания, указывающего на принадлежность билингва к определенному славянскому этносу, этнонима и оттопоними-ческого прилагательного, называющего пункт проживания представителя этноса, отэтноними-ческого прилагательного и прозвищного этнонима, обобщенных и неопределенных характеристик биэтноров (вторая группа информантов):
[А по национальности Вы кто?] А нацыаналь-насть... Бох её знаит, хто: мать – казачка данская, атец – украиниц, хахол вот мачишанский (из с. Мачеха. – Н. Т.). Ну а вот я хто? Митис с двух старон адин [Ну и как у вас в паспорте написано?] А-а, русская (х. Калиновский); [А казачьи корни или украинские?] Нет, у нас, наверна, больше украинские по материнской линии, потому что нас всягда называли хохлами почему-то. [А сами себя не относите к хохлам?] Нет, я русский человек (х. Завязка). [А в паспорте какая национальность у всех была?] Русский, русский. Хохол – это не национальность. Украинец тут нет, писали всем, что русский (с. Сидоры);
-
в) включение этнонимов (официального / прозвищного) или их заместителей (оттопони-мических прилагательных, наречий образа действия и др. средств, выполняющих роль этномаркеров) в мотивирующий контекст речи монолингвального диалектоносителя, имеющего биэтничные корни или способного включаться в билингвальную ситуацию общения (вторая и третья группа информантов):
-
2. Реализацией этнолингвистических скреп является «переключение» языкового кода, фиксируемое в многообразных сегментах высказываний – темах, микротемах, ситуациях, микроситуациях, раскрывающих материальную и духовную стороны жизни полиэтнического сообщества:
[ А в магазин пойдете, на каком языке будете говорить? ] Если прадавец хахлушка , то и па-хахля-чи (с. Сидоры); [ А по национальности Вы кто? ] Ну, написана руский , а так фсе радитили , фсе разγавари-вали на укрáинскам языке (с. Сидоры); Мать , чит-вёртая систра, хахлы были. И атец, атец руский был, па-хахлачему ни разγаваривал. Вот я у хахлов сколька вот жыву, а па-хахлачи я ни разγавариваю (х. Песча-новка); Ну, у нас жы какая-то смесь. Вроди бы и по-украински, и не по-украински . Называицца « хахлы » (с. Мачеха); Я чистая казачка . У вас (то есть в хохлацком селе. – Н. Т.) пражыла 50 лет. Никто мине ни тронул, ничиво. И паю вашим γоласам. Вот песни я паю па-хахлячи . Но γаварю па-казачьи (с. Сидоры).
-
а) противопоставление единиц разнородных лексических подсистем славянских языков (говоров) и/или средств русской разговорной речи при почти полном «переключении» языкового кода в речи билингвов, представителей двойственной, биэтничной идентичности, чаще в семейном общении (вторая группа информантов).
Ср. использование разных кодов для изложения одной и той же ситуации в рассказе информанта-биэтнора:
Значить, жылы, дык так: батькови отвичалы на русскам языки, а матэри отвичалы на украинс-кам языки. <...> Ну, если ссора яка-нибудь произой-дэ, или лаются, то обязательно она по-своему, а вин по-своему. <...> И никаγда друγ друγу ни усту- пали. Ни она никаγда ни заγоворила па-руски, а он па-хахлачи ни заγоворил. Мы отцу отвичалы по-руски, а маме отвичалы по-хахлачи. И мама заставляла γаварить «Вы». Если я на мать скажу: «Ну ты чё меня ни пускаиш на танцы?» – ана таγда на ниде-лю запретит, потому шо «Вы». «Ты чё миня ты-чиш, ты чё “Ты”?». А он γаварит: «Ну, ты, значить, совсем чужая, што они тибя на “Вы” называ-ють?!» (с. Мачеха);
-
б) точечное «переключение» кода в словесной ткани родного говора при немотивированном употреблении монолингвом отдельного инославянского элемента, маркирующем процессы межъязыкового (междиалектного) взаимодействия в полиэтнической среде общения (первая группа информантов):
Ткалы з конопэль. Конóпли сиялы. Плóскинь бралы, на Бузулуке мочили. Возылы. А потом на тярныцю их тэрла. А потом ногамы йих мяли, а потом прялы. Станок був ткацкий. И ткалы. Вото-лы ткалы, полотно ткалы, всэ ткалы. Ленту на той наткаиш и потом сшиваеш и получаеця вотула , по-лучаеця столешница (с. Семёновка).
Приведенный контекст содержательно раскрывает фрагмент выделяемой в текстах темы «Исконные трудовые занятия в традиционном быту, хозяйстве. Ремесло. Ручное мастерство» на основе микротемы ‘этапы и процессы производства изделий / продуктов ручного труда в традиционном быту, хозяйстве’, в которой, наряду с ярко представленными разноуровневыми чертами украинского / хохлацкого говора, в том числе украинизмами конóплi ( конóпель ) – «конопля», плоскiнь – «мужская особь конопли», тéрниця – «мялка, трепалка для обработки конопли» (Авдеева, т. 1, с.173; т. 2, с. 111, 228), наблюдается использование лексики донского говора: ватола / вотола – «толстая и грубая ткань из льна или конопли» (СГДВО, с. 67), этимологически восходящего к старорусскому диалектному вато-ла / вотола / вотула (Фасмер, т. 1, с. 358), и столешник (- ца ) – «скатерть из дешевого материала» (СГДВО, с. 570), зафиксированного в современном диалектном употреблении;
-
в) ситуативное соединение лексических параллелей (эквивалентов или аналогов), выраженных средствами разных славянских языков (диалектов) в контексте (все группы информантов):
Мяγэньки пирожочки на чисту ситцеву тряпочку или на рушничок складайтэ, они пидходят. Тодди олии налывайтэ, подсолнечноγо масла , в ско-воридку и берить ти пирожочки, яки пэрви слэпы-лы, и кидайтэ их, и до румяноγо цвета (с. Мачеха); Саша патходит, я γаварю: «Саш, ну, вот, лук пачи-стила, ищё какую-та цыбулю нада» (ст. Тепи-кинская); Сопствинна, у нас разницы мижду Ма-чихой и Семёнафкай па γовару, па мове нет никакой (с. Мачеха);
-
г) комбинированное пересечение лексики междиалектной и языка титульной нации, выступающего общезначимым элементом речи представителей разных этносов, междиалектной лексики и средств, составляющих специфику отдельного славянского языка (диалекта), которое используются для выражения различных ситуаций материальной и духовной жизни населения (первая и вторая группы информантов):
-
3. Этнолингвистические скрепы могут реализоваться на основе семантизация лексики в речи диалектоносителей (см.: [Тупикова, Стародубцева, 2022]).
[ А чому вы кажете украинцы, украинцы, а в соседнем сели кажут хохлы. То як? ] Ну, хохлы ! Це ж по-культурному пишется украинцы , а бильш пидходым до кубанских казакив , як они балакають (с. Мачеха); Я з нею 25 γодив прожыла. В одний хати . Хата её була маленькая така, двухкомнатна, там флиγелёк стоял (с. Семеновка); У р упки такие, ис кирпича вылажывались (с. Завязка); Они кажуть : « Шукайте !», заховали же невесту. Ну, тоди выводят. <...> Посватали, а потом вечарына собирается, молода ходе, приγлашае по слободи дивчат (с. Семеновка); Свикрофь мне сварила суп , ни суп , ну, он называица капусня ′ к па-укрáински (ст. Тепикинская).
Зафиксированная в контексте лексика разных частей речи (в украинской и донской огласовке) принадлежит к разным пластам и функциональным разновидностям: кроме общеславянской и общеупотребительной, представлены междиалектные (межъязыковые) единицы разной функциональной значимости: вечерина / вечорина , грубка , казак / козак , суп , хата ; балакать / балакати , казать / ка-зати , шукать / шукати , ( за ) ховать / хова-ти ; тоды / тодi ; лексика, соотносимая с подсистемой одного языка (говора): донского – флигелёк , хохол ; украинского – слобода , це , капусня ′ к (Авдеева, т. 1, с. 24, 54, 104,151; т. 2, с. 205, 232, 252, 259, 298; СГДВО, с. 32, 74,123, 229, 230, 591, 621, 624, 629, 633, 678; УРС, с. 30, 229, 241, 566, 579, 599, 604, 608, 628).
Чаще это наблюдается в высказываниях второй группы информантов, которые являются потомками «коренных» жителей, рожденных в смешанных русско-украинских семьях, не утратили связи с основой родного языка (диалекта) и обладают способностью переключаются на систему донского или хохлацкого говора:
-
а) сопоставление на основе синонимичности внутриязыковых и эквивалентности межъязыковых (междиалектных) параллелей (вторая и третья группы информантов):
Свитáнок – это свитáн , это рáнок , рассвет , утро (с. Сидоры); А то дежá – то нóчвы у нас назы-валыся (с. Семёновка); у хахлов чаплэйка , а у нас (казаков. – Н. Т.) цапальник (с. Семёновка).
В контексте использованы внутриязыковые неполные синонимы (литературный и диалектный) и межъязыковые неполные эквиваленты: укр. лит. свiтáння , свiтáнок , свiтáн , укр. диал. рáнок , рус. лит. рассвет , утро ; междиалектные полные эквиваленты: дон. диал. дежá , цапальник / чапальник , укр. диал. нóчви , чаплiйка (Авдеева, т. 2, с. 47, 165, 272; СГДВО, с. 136, 639, 645; СУ, т. 3, с. 1252; т. 4, с. 1023; УРС, с. 523);
-
б) гетерогенное использование русизмов и украинизмов, межъязыковых (междиалектных) параллелей разной функциональной значимости (литературной, разговорной диалектной лексики) как языковых переменных одного сложного кода, средств эквивалентной и/или дефинитивно-описательной семантиза-ции с элементами энциклопедической информации и «наивного» метатекстового толкования, отражающего практический опыт говорящего (все группы информантов):
Ўот уси ж ваши γоршки, чи чаплийки, яки сковоридку беруть, дэржатели по-руски сейчас, а то чаплыйка була. Якой мы блынци ж пэклы (с. Мачеха); Ну, шо мамку звалы, она звала свою бабу «нэнька», вот матерь, а папку она звала «тато» (с. Мачеха); Капусту любу, девочки, змывайтэ водою <...> а еще лучше кипятком обдалы еи. Мы её называем зилье, капусту (с. Мачеха); ...столешник, ну щас скатерть, настильнык (с. Семеновка); Печу, я всэ печу. <...> з хвасулею пичу, и с тыквою пичу, ну, с γарбузами, у нас по-хохлячи γарбузы (с. Семе-новка); А хыжыны теперь же нэ вмае у мэнэ. Тож раньшы называлося хыжына. Як была старая хата, то называлась она схыжына была, ну или кимнат-ка. А в тый хыжыне стояло зэрно (с. Семеновка); А, зыпка была, диривяная зыпка, к потолку прыби-валы кольцо, на верёўке вешали <...> Па-хахлячи эт называлася колыска (х. Дьяконовский ); [А сино у вас где?] А вон в сарае. Половни называэця. Сарай только для сена. Да, для сена, половэнь называэця (с. Семеновка);
-
в) совмещение общих и частных, родовидовых, признаков, заключенных в значениях межъязыковых (междиалектных) параллелей, которые отражают различные этноязыковые коды носителей говоров, как средство пояснения контекстуального смысла слова-соответствия:
Диты вырослы удачни , як мы кажэм, γарны люды, отзывчивы, настоящи, пособляют ўсым (с. Мачеха).
Оценочное прилагательного удачный , толкуемое в русском языке как «вполне соответствующий требованиям» и используемое с украинской огласовкой флексии, выражает частную оценку в дифференциальном признаке ‘прагматическая, утилитарная оценка’ и выступает средством конкретизации контекстуального смысла украинского соответствия гарний , употребляемого в общеоценочном значении «хороший» (Авдеева, т. 1, с. 88; СУ, т. 4, с. 893; УРС, с. 106).
С точки зрения полевой функциональносемантической организации лексикона диалек-тоносителей, ранее рассмотренной в наших работах [Тупикова, 2013, с. 39–41], этнолингвистические скрепы могут быть представлены ядерными, приядерными, периферийными кон-ституентами названной структуры, что требует в перспективе дополнительной характеристики по признакам специализированности, регулярности употребления лексических средств, выступающих в функции этномаркеров.
Заключение
Проанализированные источники и языковые факты, зафиксировавшие словоупотребление диалектоносителей – представителей этнически неоднородного континуума на территории бытования донских говоров Волгоградской области, позволили охарактеризовать факторы, способствующие формированию интегративных явлений в речи диалектоноси-телей и обусловливающие специфику речевого взаимодействия двух этнических групп населения – донских казаков и украинского / хохлацкого меньшинства, осознающего себя частью русского народа, отделяющего себя от нации украинцев по территориальному и этнокультурному признакам.
Особенности, наблюдаемые в речи разных групп информантов – сельских жителей обследованных населенных пунктов, носителей донского и/или украинского / хохлацкого говоров, биэтноров – членов смешанных русско-украинских семей, монолингвов и билингвов, предложено определять с помощью терминологического сочетания «этнолингвистические скрепы». В данном исследовании этнолингвистические скрепы – интегративные способы фиксации этноязыкового единства диалектоносителей, реализуемые в речи донских казаков и украинских переселенцев (их потомков) лексическими средствами, которые опосредованно маркируют общезначимые реалии окружающей действительности, отражая коллективный культурно-исторический опыт славянских этносов в сфере материальной и духовной деятельности на территории смешанного проживания населения.
Внеязыковые факторы создают предпосылки появления этнолингвистических скреп в речи диалектоносителей. Внутриязыковые процессы, связанные с контекстуальной реализацией системных связей лексических единиц – этимологически и/или функционально однородных либо неоднородных элементов подсистем родственных славянских языков (говоров), направлены на реализацию интегративных способов выражения значений, соединяющих в высказывании разную этнокультурную информацию о реалиях окружающей действительности (лицах, предметах, процессах, признаках) в неразделимое целое, что отражает непротиворечивую среду общения носителей донского и украинского / хохлацкого говоров в сложившемся речевом континууме.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-01215, («Этнолингвистическое исследование лексикона диалектоносителей на территориях бытования донских говоров Волгоградской области в пунктах смешанного проживания русских и украинцев»).
The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation, project no. 23-28-01215, («Ethnolinguistic study of the lexicon of dialect speakers in the territories of the Don dialects of the Volgograd region in the places of mixed residence of Russians and Ukrainians»).
Список литературы Этнолингвистические скрепы в речи носителей донских и украинских говоров Волгоградской области
- Администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. URL: https://rakikv.ru/pages/o-raione.html
- Березович Е. Л., 2007. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М.: Индрик. 600 с.
- Брысина Е. В., 2018. Этнокультурный потенциал диалектного словаря // Вестник Костромского государственного университета. № 3. С. 164–167.
- Вендина Т. И., 2023. Онтология лингвистической карты. СПб.: Нестор-История. 452 с.
- Власкина Т. Ю., Архипенко Н. А., Власкина Н. А., 2009. Этнолингвистический словарь Дона: разработка концепции и создание базы данных // Проблемы истории, филологии, культуры. № 2 (24). С. 467–471.
- Воробьев А. В., 2000. Поселения Волгоградской области. Волгоград: Станица-2. 240 с.
- Ильин Д. Ю., 2012. Топонимическая лексика в текстах региональных газет конца XIX – начала XXI века: динамические процессы. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 408 с.
- Ильина Е. Н., 2015. Диалектная языковая личность в фокусе лингвистических проблем // Вестник Череповецкого государственного университета. № 2. С. 75–79.
- История – село Сидоры. Михайловский район. Волгоградская область. URL: https://uistoka.ru/ssidory/istoriya
- Карский Е. Ф., 1924. Русская диалектология. Л.: Книгоизд-во «Сеятель» Е.В. Высоцкого. 172 с.
- Киклевич А. К., 2020. Культурная лингвистика – этно-лингвистика – лингвокультурология: польский и русский опыт исследований // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. № 2 (март). С. 3–10. DOI: 10.20339/PhS.2-20.003
- Королькова М. Д., 2020. Материалы к словарю ремесленной лексики русских говоров (Присурское Поволжье) / ред. С. А. Мызников, Н. Л. Сухачёв. СПб.: ИЛИ РАН. 296 с.
- Красовская Н. А., 2013. Организация и функционирование диалектных антропоцентрических глаголов (на материале тульских говоров): автореф. дис.... д-ра филол. наук. Курск. 43 с.
- Крысин Л. П., 2008. Введение. Активные процессы в русском языке конца ХХ – начала ХХI века // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже ХХ–ХХI веков. М.: Яз. слав. культур. С. 13–29.
- Крючкова О. Ю., 2021. О возможностях корпусного изучения картины мира носителей традиционной народной культуры // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. Т. 21, вып. 2. С. 126–130. DOI: 10.18500/1817-7115-2021-21-2-126-130
- Лобанова Н. А., 2008. Этнодемографические особенности населения Волгоградской области // Вопросы краеведения. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Вып. 11. С. 364–367.
- Луночкин А. В., 2017. Русские Волгоградской области // Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 269–270.
- Маноцков Г. И. Старинные поселения по Бузулуку. URL:https://volgokray.narod.ru/history/buzuluk.htmlURL:http://ukrvolga.seun.ru/poseleniya.html
- Марченко Т. В., 2010. Особливостi iнтерв’ю при збираннi дiалектного матерiалу // Анклавiстика: збiрник наукових праць. Горлiвка: Вид-во ГДПIIМ. С. 12–18.
- Минх Н. А., 1900. Историко-географический словарь Саратовской губернии. Т. 1. Южные уезды: Камышинский и Царицынский. Саратов: Тип. губерн. земства. 556 с.
- Осипова К. В., 2023. Севернорусская лексика пищи и питания в этнолингвистическом аспекте: дис.... д-ра филол. наук. Екатеринбург. 633 с.
- Разина А. С., 2018. Этнолингвистические, этнодиалектные и лингвокультурологические словари как новый этап лексикографии // Вопросы лексикографии. № 14. С. 50–67. DOI: 10.17223/22274200/14/3
- Рыблова М. А., 2017. Донские казаки // Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 91–94.
- Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия, 2002: в 2 т. / авт.-сост. В. В. Богуславский. М.: Олма-Пресс. Т. 1. 784 с. ; Т. 2. 816 с.
- Смирнова В. А., 2017. Современные этнические процессы в Волгоградской области // Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 297–298.
- Сороколетов Ф. П., Кузнецова О. Д., 2006. Историзм как определяющий принцип «Словаря русских народных говоров» // Грани русистики: Филологические этюды: сб. ст., посвящ. 70-летию проф. В.В. Колесова. СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, С. 532–541.
- Стародубцева Н. А., Цивилева А. В., 2010. Возникновение украинских поселений на территории современной Волгоградской области в контексте истории колонизации Нижнего Поволжья // Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 11–12 нояб. 2009 г.). Киев ; Москва ; Уфа: Изд-во Уфим. фил. МГГУ им. М.А. Шолохова. С. 119–121.
- Супрун В. И., 2010. Коренное украинское население Поволжья и Подонья: от появления до перехода в статус скрытого меньшинства // Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 11–12 нояб. 2009 г.). Киев ; Москва ; Уфа: Изд-во Уфим. филиала МГГУ им. М.А. Шолохова. С. 121–126.
- Супрун В. И., 2017. Украинцы Волгоградской области // Этнографическая энциклопедия Волгоградской области / гл. ред. М. А. Рыблова. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 335–337.
- Теркулов В. И., 2010. Методологiя анклавных дослiджень // Анклавiстика: збiрник наукових праць. Горлiвка: Вид-во ГДПIIМ. С. 5–12.
- Толстая С. М., 2007. Толстовские чтения в Институте славяноведения // Славяноведение. № 2. С. 110–119.
- Толстая С. М., 2013. Постулаты московской этнолингвистики // Толстые Н. И. и С. М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. М.: Ин-т славяноведения РАН. С. 67–82.
- Тупикова Н. А., 2008. Язык региона как объект научного исследования: задачи и перспективы // Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков: сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Тупикова. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 185–197.
- Тупикова Н. А., 2013. Основные подходы к структурированию лексикона диалектоносителей в пунктах смешанного проживания населения // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. № 4. С. 36–42.
- Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2022. Способы семантизации диалектной лексики в региональной художественной прозе и устной речи диалектоносителей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 21, № 4. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.1
- Тупикова Н. А., Стародубцева Н. А., 2023. Лексикон диалектоносителей в этнолингвистическом аспекте: проблемы, задачи, методы исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 22, № 4. С. 48–61. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.4.4
- Филичева Н. И., 1985. Языковая общность как лингвистическое понятие // Вопросы языкознания. № 6. С. 55–62.
- Харламова М. А., 2009. Этническая самоидентификация и ее показатели в диалектном тексте // Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. Т. 151, кн. 3. С. 281–287.
- Энциклопедия казачества, 2007 / сост. Г. В. Губарев ; ред.-изд. А. И. Скрылов. М.: Вече. 544 с.