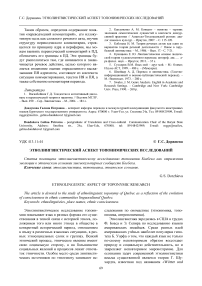Этнолингвистический аспект топонимических исследований
Автор: Доржиева Галина Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена этнолингвистическому исследованию топонимии Квебека как отражения эволюции в этническом сознании лингвокультурных сообществ Квебека.
Этнолингвистика, топонимика, этническое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148180705
IDR: 148180705 | УДК: 413.11:44
Текст научной статьи Этнолингвистический аспект топонимических исследований
Этнолингвистическое исследование топонимии показывает язык в разных формах его существования в тесной связи с историей этноса, положением того или иного этноса в обществе в конкретный исторический период, отношением к языку в различных языковых ситуациях, в разных этносоциальных слоях и группах. Всякий этнический процесс, этническое явление имеют свою социальную сторону, а на большинстве социальных явлений и процессов лежит отпечаток этничности. Особое место среди лингвистических источников по этногенезу занимают ис- следования по ономастике (этнонимика, топонимика, антропонимика).
Этнолингвистика зародилась в США в трудах Ф. Боаса и Э. Сепира по исследованию языков американских индейцев. Среди разных идей американских учёных наиболее популярна гипотеза Б. Уорфа о том, что каждый язык не только по-своему неповторимым образом воссоздает природу и социальную действительность, но и закрепляет неповторимое мировоззрение. Для осознания задач современной этнолингвистики весьма существенной является теория Г. Шу-хардта, известная под названием «Wörter und
Sachen» («Слова и вещи») и ориентированная на изучение истории слов в тесной связи с историей реалий. Сюда же примыкают труды итальянских неолингвистов Дж. Бонфанте, В. Пизани, Н. Бартоли. У истоков этнолингвистики в России стояли такие выдающиеся отечественные ученые, как А.А. Шахматов, С.Ф. Карский, Д.К. Зеленин, Н.П. Гринкова, Б.А. Ларин и др. На её дальнейшее становление в нашей стране особенно повлияли работы А.А. Потебни, В.М. Жирмунского, И.Г. Гердера и серия конференций и трудов, осуществлённых по инициативе М.А. Бородиной и С.И. Брука под названием «Ареальные исследования и этнография». Большое значение для развития отечественной этнолингвистики имела теория языковых союзов разных типов, изложенная в работах Н.С. Трубецкого. Самоопределению этнолингвистики как особой дисциплины немало способствовал Н.И. Толстой. Кроме славянской, романской, германской этнолингвистики учёный, сужая объект исследования, выделяет польскую, шведскую этнолингвистику. Значительным прогрессом это направление отличалось благодаря многочисленным исследованиям А. Вежбицкой.
С позиции этнолингвистики категории и факты языка и текстов на языке используются только как средство более глубокого проникновения в собственно этнические и социальные процессы. Топонимическая лексика с национальнокультурной семантикой даёт мелкую детализацию и дробление понятий, которые хорошо представляют характер мышления представителей этноса: Pikogan инд. ‘чум, крытый шкурой’, Iqiattavialuk инуит. ‘место ловли рыбы на крючок’, фр. Lac en Dentelle ‘озеро, похожее на кружево’. Диахроническая этнолингвистика использует языковые факты как средство познания далёкого прошлого, этнической истории народа, истории его материальной и духовной культуры. Синхроническая этнолингвистика рассматривает языковые процессы как орудие и средство проникновения в актуальные национальные и социальные проблемы современности. В наше время этнолингвистика не теряет свое значение.
Проведя анализ подходов отечественных и зарубежных учёных к вопросу соотношения понятий язык – мышление – культура, С.Г. ТерМинасова так сформулировала основные положения: «Язык – свидетель культуры. Культура может меняться под влиянием многих социально-исторических факторов, например идеологии, пропаганды, политических требований времени. Язык – свидетель всех этих изменений, он, как известно, не только отражает, но и хранит культуру, передает ее от поколения к поколению» [6, с.19-20]. В определённые моменты исторического развития язык нередко ощущается, прежде всего, как символ национального единения, как фактор и орудие борьбы за национальное возрождение. В такие исторические периоды массовые переименования превращают топонимию в средство идеологической борьбы, чем она не должна быть по своему назначению, например: инд. Tscheshasipi > англ. Big River > фр. La Grande Rivière ‘большая река’. С точки зрения семиотики язык в целом приобретает особое значение в ряду различных знаков, связанных с национальным сознанием, культурой. При наличии в стране районов с компактным иноязычным населением всякое минимальное ущемление прав и сужение жизненно важных сфер применения языка этого населения всегда таит в себе ростки взаимного недоверия и ущемления национальных прав. Как справедливо отмечает Л.Б. Никольский, язык может выполнять как интегрирующую, так и разъединяющую функцию [3].
В.И. Козлов пишет о существовании некоторых связей между психологическим складом, температурными и природными условиями, хотя причинно-следственные закономерности здесь не всегда чётко прослеживаются. По мнению исследователя, механизмы психологической адаптации более гибки и действенны, чем физической, и такая адаптация идёт быстрее, но и она требует времени [2, с.13]. Люди постепенно привыкают к определенному ландшафту, и с течением времени, со сменой поколений он представляется им родным. Человек, выросший в холмистой лесной полосе, чувствует себя неуютно при переселении на равнинную степь или морское побережье, даже если климатические условия их очень близки. Многими исследователями отмечено, что в разных регионах земного шара в условиях миграции в иную географическую и культурную среду переселенцы приносили с собой привычки и традиции родных мест, их названия, чтобы ослабить острое чувство ностальгии (Д.Н. Егоров, Е.М. Поспелов, А.В. Cуперанская, М.В. Горбаневский и др.). В Квебеке многочисленны вторичные, перенесенные французские названия: Paris (ороним), Nantes, Bretagne (ойконимы) и пр.
П. Рикёр, исследуя проблему памяти, истории и забвения, цитирует известную метафору христианского богослова и политика Августина (354-430) – «огромные палаты памяти». Эта стержневая метафора получает подкрепление со стороны родственных образов: «вместилище»,
«кладовая», откуда «берутся, как из резервуара», воспоминания. Учёный пишет, что памяти дано вспоминать без радости то, что когда-то вызывало радость, без печали то, что прежде печалило. Сила памяти велика до того, что «я помню, что я помнил» [4, с. 136, 139]. С позиции изложенных идей девиз Квебека «Je me souviens…» (Я помню…) приобретает особую символическую значимость. Топонимия Квебека – это «палаты многовековой памяти» североамериканского континента. По мнению А.В. Суперанской, онимическому пространству, которое отличается чрезвычайной широтой и разнообразием входящих в его сферу единиц именования, присуща культурная непрерывность, определяющаяся связью имен, созданных людьми разных культур и времен. Это пространственное распределение топонимов позволяет им быть представителями и хранителями значительной культурной информации [5, с. 15].
Конфессиональные различия во многом определили конфронтацию франко- и англоканад-цев. Для католиков-франко-канадцев англичане-протестанты оставались «еретиками и богоотступниками». С позиции англичан англофранцузское соперничество в колониальной Северной Америке трактовалось только в одном ключе – как противостояние сил феодальной католической реакции, «бесплодного абсолютизма» и клерикализма, которые старались привить на американской земле французы, и про-тестанского прогресса, свободы и демократии, носителями которых являлись англичане и жители их колоний. Политика англичан получила идеологическое обоснование в проповедях религиозного лидера колонии К. Мэзера, утверждавшего, что война в Северной Америке – это битва между Христом и Сатаной [1, с.27].
После завоевания Канады в 1763 г. англичане стали переводить для собственного использования наиболее важные франкоязычные географические названия. Смена идеологии имеет свои закономерности и вызывает необходимость выражения культурной традиции на новом языке, с этим процессом тесно связаны топонимические переименования.
В 1791 г. создание Верхней и Нижней Канады подтвердил двунациональный характер будущего канадского государства, в последующем именуемые Французская и Английская Канада. Борьба английского и французского языков за сферы влияния велась в течение всего времени сосуществования франко- и англоканадцев. Она протекала в разных формах: на ранних этапах это была борьба французского языка за выжива- ние, проявлявшаяся в стремлении франкоканадцев сохранить свой язык в семье, богослужении, образовании, а также в топонимическом пространстве: английский инсулоним Wood Island был калькирован на французский язык Ile au Bois ‘лесной остров’.
В 40-х гг. ХIХ в. и во второй половине ХХ в. франкоканадцы приступили к новому духовному возрождению, осознанию своей самобытности во многом благодаря историческим личностям (Ф.-К. Гарно, Л.-Э. Бурасса, Л. Гру, Р. Левек), которые способствовали победе «своего» над «чужим». Мемориальные топонимы Garneau, Bourassa (ойконимы), Groulx (ороним), Levesque (урбаноним) – дань благодарной памяти квебекцев своим видным государственным и политическим деятелям, идейное вдохновение и поддержка которых помогали им выстоять в трудные периоды истории.
60-е гг. ХХ в. – это время усиления борьбы квебекцев за расширение функций французского языка в жизни общества и государства. В Конституции 1982 г. юридически закрепилось равенство английского и французского языков. Мы согласны с Т. Ю. Загрязкиной, что это естественная этноцентрическая реакция на угрозу культурного выравнивания, связанная с новым определением идентичности человека и коллектива: активным поиском «чужого», на фоне которого определяется «свое».
«Чужие» имена с помощью французских термо- и словообразовательных средств ( Lac Blue Sea, Water ville , Le Mons’sen ) предстают в сознании квебекцев уже как «свои», так как понимание «своего» и «чужого», по мнению Н. И. Толстого, не неизменно, не стабильно, оно изменяется во времени и в своем «объеме» и во многом зависит от изменения форм и функций этнического и национального самосознания. Топонимическая картина мира представляет собой определенный ракурс этнической культуры и определенный вариант кристаллизации этнической традиции, которые находят свое выражение в разных топонимических модификациях.