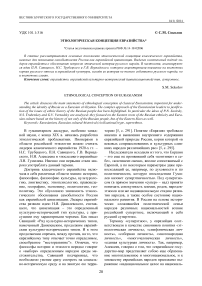Этнологическая концепция евразийства
Автор: Соколов Сергей Макарович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 14-1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные положения этнологической концепции классического евразийства, важные для понимания самобытности России как евразийской цивилизации. Выделен комплексный подход лидеров евразийства к обоснованию вопросов этнической истории русского народа. В частности, анализируются идеи П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого и Г.В. Вернадского, которые акцентировали внимание на восточных корнях русского этноса и евразийской культуры, исходя из истории не только собственно русского народа, но и восточных славян.
Евразийство, евразийский культурно-исторический (цивилизационный) тип, суперэтнос
Короткий адрес: https://sciup.org/148182272
IDR: 148182272 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Этнологическая концепция евразийства
В гуманитарном дискурсе, особенно западной науки, с конца ХIХ в. началась разработка этнологической проблематики. Пионерами в области российской этнологии можно считать лидеров классического евразийства 1920-х гг. – Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, Н.Н. Алексеева и «последнего евразийца» Л.Н. Гумилева. Именно они первыми стали широко употреблять данный термин.
Доктрина классического евразийства включала в себя различные области знания: историю, философию, философию культуры, культурологию, лингвистику, этнопсихологию, правоведение, географию, экономику, политологию, геополитику. Это обусловило значимость этнологического обоснования самобытности России как евразийской цивилизации. Лидеры евразийства развили идею Н.Я. Данилевского, считавшего, что цивилизация – это определенный культурно-исторический тип культуры, с присущими ему характерными чертами. Как писал Савицкий: «Ряд культурно-исторических типов, намеченный Данилевским, продолжим евразийским культурно-историческим типом. И в этом продолжении опремся, между прочим, на то, что евразийскому типу отвечает точно определимое, своеобразное “месторазвитие”». Отмечая, что философы истории и этнологи нередко говорят о «выборе» определенным народом среды местожительства, Савицкий подчеркивал, что необходимо умение сразу смотреть на социально-историческую среду и на занятую ею терри- торию [5, с. 291]. Понятие «Евразия» требовало анализа и выявления внутреннего содержания евразийской природы России, корни которой «в вековых соприкосновениях и культурных слияниях народов различнейших рас» [5, с. 295].
Исследователи исходили из того, что Евразия – это еще не проявивший себя «континент в себе», «континент-океан», вполне сопоставимый с Европой, а по некоторым параметрам даже превосходящий ее, например, по духовности и по полиэтничности, которую впоследствии Гумилев назовет суперэтничностью. Под суперэтносом (в прямом значении «супер» – над) принято понимать совокупность племен, родов, народов-этносов или же наднациональную стадию развития народов, а также особое состояние национального развития. В России на основе исторически сложившейся полиэтнической семьи народов различных национальностей возник российский суперэтнос, включающий в себя русский суперэтнос.
Термину «суперэтнос», у евразийцев соответствовали в качестве синонимов понятия «этнологическая личность», «симфоническая личность», «соборная личность», «многонародная личность», «многочеловеческая личность», «единая культурная личность». Так, например, Алексеев, говорил о том, что «евразийское государство-мир представляет собою еще образование многоплеменное и многонациональное, и к множеству евразийских народов приложимо выражение «наднациональное целое на националь-
С.М. Соколов. Этнологическая концепция евразийства ных основах». «Наднациональность» подобного политического образования есть иное выражение для обозначения принадлежности всех евразийских народов к единой культурной личности» [1, с. 130].
Основное внимание в этнологической концепции евразийцев уделялось русскому суперэтносу. Как известно, сохраняется неоднозначное отношение к данному понятию. В связи с этим представляет интерес мнение Г.А. Югая: «понятие русского суперэтноса имеет право на существование, потому что этногенез никогда не бывает моноэтничным. Как минимум, он состоит из двух и более этносов. Например, в России он сложился из русов, скифов и варягов» [8, с. 130]. Самобытная сущность России, «русского сфинкса», как евразийского культурноисторического типа, в работах евразийцев связывалась с его восточными корнями, что выразилось в идее Трубецкого, Савицкого и Вернадского о синтетической природе русских.
Так, в работе «О туранском элементе в русской культуре», которая была неоднозначно воспринята научным сообществом, Трубецкой подчеркивал, что «сопряжение восточного славянства с туранством есть основной факт русской истории», что «если трудно найти велико-русса, в жилах которого так или иначе не текла бы и туранская кровь, то совершенно ясно, что для правильного национального самопознания нам русским необходимо учитывать наличность в нас туранского элемента, необходимо изучать наших туранских братьев» [6, с. 130]. Под ту-ранскими народами (в широком смысле, как они сами указывали) евразийцы понимали угро-финнов, самоедов (сохранившихся в Архангельской губернии и северо-западной Сибири), тюрков (татары, балкарцы, башкиры, киргизы, туркмены, алтайцы, якуты и др.), монголов (в пределах России – буряты, калмыки), маньчжур (кроме собственно маньчжуров, гольды и тунгусы – эвенки). Главным ранним «туранским элементом» они считали тюркский.
Вернадский в большом исследовании «Киевская Русь», рассматривая взаимоотношения Киевской Руси и Востока, отмечал, что «для русских было намного проще иметь контакты с половцами, поскольку язычники были меньше привязаны к своей религии, нежели мусульмане, и не возражали против принятия христианства, если в этом была необходимость, в особенности это касалось женщин. Вследствие этого смешанные браки между русскими князьями и половецкими княжнами были частыми. Среди князей, которые заключали подобные альянсы, были такие выдающиеся правители как Святополк
II и Владимир II Киевские, Олег Черниговский, Юрий I Суздальский и Киевский, Ярослав Суздальский и Мстислав Храбрый» [2, с. 385].
Евразийцы много писали о том, что Восток врос в само тело России, он стал одним из неотъемлемых слагаемых русского духовного и этнического типа. Трубецкой считал, что наклонность к созерцательности и приверженность к обряду «чужды другим православным славянам и скорее связывают Россию с неправославным Востоком. Удаль, ценимая русским народом в его героях, есть добродетель чисто степная, понятная тюркам, но непонятная ни романогерманцам, ни славянам» [6, с. 133]. В одной из своих статей («Поворот к Востоку») Савицкий подчеркивал: «Много ли найдется на Руси людей, в чьих жилах не течет хазарской или половецкой, татарской или башкирской, мордовской или чувашской крови? Многие ли из русских всецело чужды печати восточного духа: его мистики, его любви к созерцанию, наконец, его созерцательной лени?» [5, с. 136]. Отвечая на антивосточную критику оппонентов, связанную с указанием на то, что евразийцы отказываются от своей славянской крови, Савицкий обращал внимание: «русские евразийцы отнюдь не отказываются от своего славянского происхождения; они изучали и будут изучать «общеславянский элемент в русской культуре». Но они считали бы постыдным отрекаться и от своих туранских предков, а о том, что такие предки есть, свидетельствует хотя бы многочисленность русских семей татарского происхождения» [5, с. 184].
Следует сказать, что вопросы, поднятые евразийцами в свое время стали важными для сибирского областничества, и нашли свое отражение в трудах А.П. Щапова, который писал: «Когда мы говорим «история великорусского народа», то у нас, прежде всего, рождается вопрос: да будет ли то история великорусского народа, когда обозревая полный цикл фактов ее исторической жизни, мы то и дело будем встречаться на площади русской земли с многочисленными разнообразными племенами финскими и турко-татарскими, которые доселе еще населяют целые области и сплошными массами пестреют среди русского народонаселения?». Щапов подчеркивал, что «когда мы говорим: дух, характер, миросозерцание, идея русского или великорусского народа, то невольно представляется другой вопрос: да есть ли, образовался ли единый, цельный тип великорусской народности, чтобы можно было об ней составить единичную, цельную, возможно полную и отчетливую ясную идею? Чистая ли славянская кровь течет в жилах великорусского народа? Не составляет ли он амальгаму или органическое порождение различных народных элементов?» [7, с. 15]. Из рассуждений видно, что один из крупнейших сибирских историков-публицистов 60-70-х гг. XIX в. выдвинул задачу изучения этногенеза русских в рамках истории Евразии.
Савицкий, Трубецкой, Вернадский пошли дальше, отдавая предпочтение восточным корням русского этноса и евразийской культуры, исходя из истории не только собственно русского народа, но и восточных славян. Как известно, хронологический счет официальной истории русской культуры ведется с крещения Руси в Х в., в результате чего, по мнению евразийцев, многовековой языческо-евразийский период истории Руси выпал из нее. Между тем, с языческо-полиэтнического периода начинается и суперэтническая история Руси, с VII в. - скифского периода. Русь изначально была евразийско-полиэтническим суперэтносом.
Имеется специальный доклад Савицкого «Русские среди народов Евразии (методологическое введение в проблему)», прочитанный в 1934 г. на съезде историков в Варшаве, в котором рассматривались вопросы этногенеза восточных славян. В нем Савицкий разграничивает европейское славянство и восточных славян, которые в своем историческом развитии «соприкоснулись с народами финно-угорского, турецкого, монгольского и маньчжурского корня (а также с палеоазиатами)», что обусловило особенности «общекультурного облика» евразийских славян. Исследователь отмечал: «Задача заключается в том, чтобы определить в какой мере отдельные своеобразные (в отношении остального славянства) особенности русского племени определились его восточными связями» [5, с. 196]. Интересно указание на то, что «по целому ряду вопросов русская народная культура примыкает именно к востоку», так что граница «востока» и «запада» иной раз проходит именно между русскими и славянами, южные славяне иногда сходятся с русскими не потому, что те и другие - славяне, а потому, что те и другие испытали сильное тюркское влияние.
Утверждение евразийцев о том, что основу русской нации, принадлежащей к особому культурно-историческому миру, составляет евразийское славянство, позволило по-новому посмотреть на киевские истоки русской истории, этнографии, фольклора. Отмечая в докладе значимость возникающей науки, истории Евразии, Савицкий указывал на книгу Вернадского «Опыт истории Евразии», в которой, говоря о том, что вся история Византийского царства была связана и со степным Востоком, Вернадский подчеркивает: «Теми же отношениями окрашены ранние века русской истории, ее “домонгольский период” - Киевская Русь». В результате «русская цивилизация и культура постепенно пропитывались началами, с одной стороны, византийской (то есть греко-восточной) цивилизации и культуры степных кочевников, перенимая от них одежду и оружие, песнь и сказку, воинский строй и образ мыслей» [2, с. 384]. Один из ранних евразийцев Г.В. Флоровский, позже отошедший от евразийства, развивая идею о культурно-исторической равноценности народов и утверждая, что Россия есть в высшей степени сложная историческая формация, указывал: «Не трудно различить в русском быте разнородные слои - варяжский, византийский, славянский, татарский, финский, польский, московский, “санкт-петербургский” и прочие, и не трудно возвести эти осадочные образования к определенным причинно-действиям» [4, с. 35].
Достижением евразийского обоснования «ту-ранского элемента» в этнической истории русских явилось то, что оно представляло собой синтез истории, этнографии, культурологии, географии. Особый интерес представляет обращение евразийцев к рассмотрению типологических и контактных взаимосвязей восточных славян и «туранских народов» в области литературы и искусства. В своих исследованиях они большое внимание уделяли восточным истокам, которые обнаруживаются в древнерусских литературных произведениях разных жанров (сказаниях, хождениях и др.), как, например: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Известно, что в свое время такие крупнейшие филологи, как А. Веселовский, Ф. Буслаев, А. Афанасьев писали о внутренней близости восточных мифов, легенд, сюжетов. Эти и другие ученые обращали внимание на то, что восточный колорит всегда сопровождал русскую культуру, литературу, музыку, устное народное творчество. Вернадский, рассматривая быт и народную культуру Киевской Руси, обращал внимание на то, что тюркские образцы также ясно выявляются в русском фольклоре, как в былинах, так и в волшебных сказках и поразительное сходство в строе гаммы русской народной песни с песнями некоторых тюркских племен. Он, в частности указывал: «Некоторые древнерусские песни сложены в так называемом пентатонном звукоряде, за самый короткий ин-
А.Е. Беляев. Политическое своеобразие самодержавия в публицистике И.Л. Солоневича и русских консерваторов конца XIX – первой половины XX в.
тервал в котором принят “тон” или “полный интервал”. Как заметил князь Н.С. Трубецкой, подобный звукоряд встречается в народной музыке тюркских племен бассейнов Волги и Камы – башкир, сибирских татар, тюрков Центральной Азии, а также у аборигенов Сиама, Бирмы и Индокитая. В этом смысле музыку, по крайней мере, одной группы древнерусских народных песен, можно назвать скорее евразийской, чем европейской. На Украине пентатонный звукоряд обнаруживается только в небольшом количестве очень древних песен, среди других славян его использование еще более редко» [2, с. 274].
Евразийская концепция этногенеза русских, основанная на том, что в образовании русской нации большую роль сыграли, прежде всего, тюркские и угро-финские племена, населявшие единое с восточными славянами «месторазви-тие» и постоянно взаимодействовавшие с ними, не могла быть воспринята однозначно. Так, бывший соратник, Флоровский писал: «О родстве с Азией, и кровном и духовном, евразийцы говорят всегда с подъемом и даже упоением, и в этом подъеме тонут и русские, и православные черты» [3, с. 376]. Еще более резко высказался известный русский мыслитель И.А. Ильин: «Нет, русскую самобытность нельзя создать на путях татаризации русского духа. Самая мысль эта есть больной и оригинальничающий выверт» [3, с. 353]. Оппоненты не принимали во внимание тот факт, что евразийцы не раз отмечали – русская народность и русская культура, посто- янно видоизменяясь, сохраняли все-таки основные черты. Они призывали: «Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими» [5, с. 40]. Этнологическую концепцию евразийцев можно считать одной из ключевых при обосновании евразийского культурноисторического (цивилизационного) типа.
Список литературы Этнологическая концепция евразийства
- Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. -М.: Аграф, 1999.
- Вернадский Г.В. Киевская Русь. -Тверь: Леан; Москва: Аграф, 2000.
- Мир России -Евразия: антология/сост. Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. -М.: Высшая школа, 1995.
- Россия между Европой и Азией. Антология. -М.: Наука, 1993.
- Савицкий П.Н. Континент Евразия. -М.: Аграф, 1997.
- Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. -М.: Аграф, 1999.
- Щапов А.П. Неизданные сочинения. -Казань, 1926.
- Югай Г.А. Общность народов Евразии -арьев и суперэтносов как национальная идея: Россия и Корея. -М.: Беловодье, 2003.