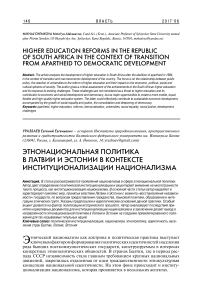Этнонациональная политика в Латвии и Эстонии в контексте институционализации национализма
Автор: Уразбаев Евгений Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проявления национализма в сфере этнонациональной политики. Автор дает определение политической институционализации и акцентирует внимание на многогранности такого процесса, как институционализация национализма. В основной части статьи автор выделяет и характеризует комплекс мер, принятых властями Латвии и Эстонии с момента «восстановления независимости» государств, по вопросам предоставления гражданства, языковой политики, образования и интеграции этнических групп. Указаны предпосылки и идеологические основания данной практики. Особый акцент делается на фактор политизации исторического прошлого. Автор анализирует последствия принятия нормативных документов для институционализации национализма и в заключение делает вывод о направленности этнонациональной политики в Латвии и Эстонии на создание привилегированного положения для так называемых титульных наций.
Политическая институционализация, национализм, этнополитика, идентичность населения стран балтии, латвия, эстония
Короткий адрес: https://sciup.org/170168817
IDR: 170168817
Текст научной статьи Этнонациональная политика в Латвии и Эстонии в контексте институционализации национализма
Э тнический национализм как доктрина и политическая практика выступает ключевым фактором формирования политических идентичностей населения ряда бывших посткоммунистических государств, конструируемым в интересах конкретных этнополитических общностей. В странах Балтии, где в период распада СССР независимость стала главным требованием крупных национальных движений, закрепилась отдаленная от идеи гражданственности этнокультурная концепция национальной идентичности. На этом фоне происходит и институционализация национализма, которая проявляется в нескольких аспектах.
В широком понимании политическая институционализация является процессом формирования устойчивого комплекса формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих политическую сферу жизни общества и организующих ее в совокупность ролей и статусов, образующих политическую систему. Это понятие одновременно может означать, с одной стороны, создание и формирование новых институтов, с другой – укрепление и стабилизацию существующих [Зазнаев 2006: 40]. Толкования политической институционализации могут отличаться в трудах исследователей. Это происходит потому, что авторы по-разному интерпретируют политические институты. Таким образом, по объектам процесса институционализации можно выделить следующие подходы: через нормы, через организации, через устойчивые типы поведения, через убеждения [Зазнаев 2006: 41-42].
Краеугольными вопросами институционализации национализма, на наш взгляд,являютсяееидеологический,организационныйиполитико-практический аспекты. Для изучения последнего особого внимания заслуживают меры, принимаемые руководством Латвии и Эстонии в рамках этнонациональной политики, целью которой с момента обретения независимости стало построение этнической нации в качестве несущей конструкции государств.
Говоря о предпосылках такой практики, нужно отметить, что этнический национализм, получивший распространение во многих странах бывшего СССР, стал в конце XX в. не только идеологической альтернативой и основой формирования идентичности, но и средством политической мобилизации населения. Согласно подходу Р. Брубейкера, посткоммунистические Латвия и Эстония представляют собой национализирующиеся государства, где элита, получив власть над гетерогенным социумом, занялась стимулированием культурных, экономических и политических стремлений исключительно «титульной» нации [Брубейкер 2000]. Причиной этого может быть то обстоятельство, что на момент пика экзистенциального кризиса советской системы союзный центр полностью потерял идеологический и кадровый контроль над элитами, что позволило им оперативно консолидироваться на этнической основе. Вдобавок политическая борьба на рубеже 1980–1990-х гг. нашла опору в поддержке граждан «титульных» национальностей, оформивших массовые общественные движения, политические партии, культурные ассоциации и центры. Подобные коалиции обрели преимущественно «титульный» по своему составу характер, хотя в движениях за суверенитет и независимость на первых стадиях участвовали представители других этносов. Ярким примером выступает «Народный фронт Латвии», который обрел политическую власть и, проигнорировав обещания этническим меньшинствам, на III Конгрессе в октябре 1990 г. фактически провозгласил курс на построение «латышской Латвии». В Эстонии также определились новые приоритеты. 28 июня 1992 г. на референдуме была принята Конституция Эстонской Республики, которая провозгласила народную необходимость сохранения эстонских «национальности», языка и культуры. Кроме этого, она предоставила право на проживание в государстве каждому этническому эстонцу независимо от наличия гражданства. Стоит отметить, что к этому времени гражданства и избирательного права не имели около 30% населения Эстонии, преимущественно русского и русскоязычного, что повлияло как на принятие Основного закона, так и на результаты последующих парламентских выборов. При этом ряд зафиксированных в Конституции прав национальных меньшинств был впоследствии практически девальвирован в парламентском законодательстве.
Таким образом, этнонациональная политика в Латвии и Эстонии обрела два основных направления: строительство моноэтнического государства и вытесне- ние меньшинств из ряда сфер общественной жизни. Для ее анализа необходимо выделить комплекс мер, которые в той или иной степени были реализованы властями для закрепления социального, экономического и политического превосходства «титульной» нации и направлены на конструирование этнополитической идентичности.
Заметным явлением в рамках новой этнонациональной политики Латвии и Эстонии стало изменение интерпретации прошлого в угоду конъюнктурным политическим целям. Это способствовало созданию национальных и исторических мифов. Например, в соответствии с закрепленным в декларации «О восстановлении независимости Латвии» от 4 мая 1990 г. понятием «оккупация» СССР стал официально восприниматься как «проект», нацеленный на подавление и уничтожение национальных культур, их политической самостоятельности. Так новые исторические мифы породили тему борьбы против русификации, символами которой стали даже легионы СС с недвусмысленной оговоркой, что во время Второй мировой войны в них служили сторонники «освобождения» стран Балтии, а не преступники – национал-социалисты и их приспешники.
Главной мерой в рамках политики «исключительности» в независимых Латвии и Эстонии стало принятие новых правовых норм относительно гражданства. Согласно решению Верховного совета от 15 октября 1991 г. «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации», «нулевой вариант» предоставления гражданства всему населению, как это было сделано в Литве, не предусматривался, что и обусловило начало массового безгражданства. Гражданство получили лица, которые являлись гражданами республики на 17 июня 1940 г. и их родственники по прямой нисходящей линии. В подавляющем большинстве они представляли этнических латышей. Основную часть людей, которым отказывалось в предоставлении гражданства, напротив, составили представители этнических групп, переселившихся в Латвию с 1940 г. по 1990 г. и их потомки. Данная категория включала в себя около трети населения страны.
Нормативная база по вопросам гражданства и натурализации получила окончательное закрепление через 3,5 года после данного решения Верховного совета. Стоит отметить, что за это время «бывшие граждане Советского Союза» оставались вне закона и вне общественной жизни, а их численность сократилась на 154 тыс. чел. (5,79% всего населения) [Бузаев 2007: 21]. В таких условиях 22 июля 1994 г. сейм Латвийской Республики принял закон «О гражданстве»1, установивший право приобретения гражданства путем натурализации. В то же время он предполагал ряд обязательных требований к заявителю и причины, по которым в предоставлении гражданства категорически отказывалось: антиконституционные выступления против независимости Латвии и выражение тоталитарных идей, констатированные судом; проживание лица после 17 июня 1940 г. на территории республики сразу после демобилизации из вооруженных сил или внутренних войск СССР (России), если в день вступления на службу оно не проживало в Латвии на постоянной основе; связь с деятельностью КГБ или других зарубежных служб; антигосударственная работа после 13 января 1991 г. в КПСС (КПЛ), Интернациональном фронте трудящихся Латвийской ССР, Объединенном совете рабочих коллективов и т.п.
Категория «неграждане» в Латвии официально появилась с вступлением в силу 12 апреля 1995 г. закона «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства»1. С закреплением статуса лица без гражданства получили ряд прав, однако число ограничений, в т.ч. касающихся этнических прав, постепенно увеличивалось. При этом «неграждане» остались полностью лишенными избирательного права, а также ограниченными в праве занятия руководящих должностей и выбора профессии, основания религиозных общин, владения крупной собственностью, участия в приватизации и т.д.
В Эстонской Республике характер политики в области предоставления гражданства был во многом идентичен латвийскому. В марте 1992 г. вступил в силу закон «О гражданстве», лишивший избирательного права около трети населения страны, которая была представлена по большей части этническими меньшинствами. Правовой статус лиц без гражданства был закреплен в 1993 г. с вступлением в силу закона «Об иностранцах». Изначально введенный механизм натурализации предполагал одним из обязательных требований знание эстонского языка. В 1995 г. экзамен по языку был формализован, тогда же к процедуре прибавился экзамен на знание конституции и законодательства о гражданстве2.
Практический аспект институционализации национализма нашел отражение и в языковой политике Латвии и Эстонии. Государственный статус латышского языка был определен постановлением Верховного совета Латвии в 1988 г., через год он был закреплен в Конституции Латвийской ССР. Тогда же был принят закон «О языках», который, подвергаясь изменениям после распада СССР, действовал до 2000 г. Изначально языковая политика была направлена на восстановление приоритета латышского языка в экономике, общественной сфере и быту. Декларировалась его ведущая роль в интеграции общества с учетом сохранения и развития языков этнических меньшинств. Несмотря на это, уже в 1992 г. была введена административная ответственность за нарушения в области использования государственного языка, а в декабре 1999 г. был принят более дискриминационный закон Латвийской Республики «О государственном языке»3. Согласно закону, официальная информация, любые обращения граждан в органы власти, а также все делопроизводство в стране должно было вестись исключительно на латышском языке. По сути, главная цель языковой политики в Латвии заключалась в устранении влияния остававшегося популярным русского языка на общественную жизнь. По данным Центрального статистического бюро ( Centrālā statistikas pārvalde ), после вступления в силу закона «О государственном языке» русским владели 81,2% населения, а 37,5% жителей страны считали его родным.
В Эстонии закон «О языке» был принят Верховным советом в 1989 г. Согласно этому закону в определенных случаях допускалось использование русского языка. По закону от 1995 г. русский язык получил статус иностранного, а официальное делопроизводство стало вестись только на языке «титульной» нации. Таким образом были дискриминированы около трети населения страны. Новый закон «О языке» был принят в 2011 г. В его последней редакции большое внимание было уделено государственному и административному надзору в сфере использования языков, а также ведущему статусу эстонского в общественной жизни4.
Закрепление главенствующей роли одного языка тесно связано с политикой в сфере образования, что, по сути, стало отдельным направлением политики этнической исключительности и было направлено на ущемление прав меньшинств. Так, согласно принятому в 1998 г. закону «Об образовании»1 и последующим поправкам к нему, процесс обучения во всех школах Латвии должен вестись на государственном языке. Однако перевод школ национальных меньшинств на программы на латышском языке проходит в рамках переходного периода до сей поры. На сегодняшний день в указанных заведениях на государственном языке преподается 60% учебных предметов. Отметим, что в сфере высшего образования все государственные вузы ведут обучение исключительно на языке «титульной» нации.
Хотя в ст. 37 Конституции Эстонии сказано, что учебное заведение национального меньшинства имеет право выбирать язык обучения, в 1993 г. с принятием закона «Об основной школе и гимназии» было заявлено о переводе гимназических классов (общее среднее образование) всех школ на государственный язык. При этом фактическое внедрение эстонского языка было начато только в 2007 г. Процесс, запущенный министром образования, представляющим националистическую партию Isamaa ja ResPublica Liit («Союз Отечества и ResPublica »), проходил аналогично латвийскому варианту: в гимназических классах на эстонском языке стало преподаваться не менее 60% учебного материала. Несмотря на то что в основной школе сохраняется образование на языке меньшинств, задачей указанного звена стала подготовка учеников к эстонскому образованию [Зверев 2014: 114].
С языковой политикой в Латвии и Эстонии связано создание специфических государственных учреждений и служб. В Эстонии такой официальной организацией является языковая инспекция Министерства образования и науки, созданная на базе департамента языка в 1998 г. В ее полномочия входит административное воздействие, связанное с контролем и проверкой соблюдения норм, касающихся государственного языка, и использования языка среди государственных служащих, работников бюджетной сферы, юридических лиц. Инспекция имеет право лишать сертификата на знание языка, отправлять на переэкзаменовку, налагать штрафы и принимать решения об увольнении или требовать его от работодателей. В двух странах Балтии имеется обширный перечень профессий, для которых установлено обязательное владение государственным языком разного уровня.
Аналогичными полномочиями в Латвии обладает созданный еще в 1992 г. Центр государственного языка. За разработку направлений языковой политики и наблюдение за исполнением программы, посвященной развитию государственного языка, отвечает комиссия по государственному языку при президенте.
Сложившаяся в Латвии и Эстонии ситуация привлекает внимание международных организаций и правозащитных структур, обеспокоенных вопросами предоставления прав этническим меньшинствам и их интеграции в общественную жизнь. Как правило, большую часть рекомендаций по искоренению дискриминации (упрощение натурализации, предоставление прав «негражданам», изменение языковой политики) официальные лица игнорируют либо называют их неприемлемыми. Что же касается интеграции, то власти проводят политику в данном направлении, однако меры, принимаемые ими, в первую очередь нацелены на закрепление приоритетного положения «титульной» нации, а не на уравновешивание межэтнических отношений. Ярким примером этому служит государственная программа «Национальная идентичность, гражданское общество и политика интеграции на 2012–2018 годы»1, которая была утверждена и реализуется правительством Латвии. Программа декларирует ведущую роль латышской культуры (как культуры «государствообразующей нации») и содержит план мероприятий, направленных на их поддержку. Учитывая, что «советские иммигранты» представляют собой несколько этнических групп, разработчики документа предложили не наделять каким-либо особым статусом ни одну из них, т.к. это якобы будет мешать развитию особенностей меньшинств. Согласно программе, национальная политика в Латвии должна быть основана на принципе «открытой латышскости» (аtvērtā latvietība). Это подразумевает, что государству необходимо укреплять собственную идентичность и быть при этом открытым для желающих интегрироваться, т.е. приобщаться к латышским ценностям, культуре, истории и языку. Несмотря на то что в стране признается значимость сохранения национального своеобразия меньшинств, декларируемый принцип сосуществования этничностей при принятии приоритета латышской идентичности, по сути, несет в себе идею отказа от собственных традиций, порядков и языков. Иными словами, вместо реальной интеграции власти предлагают меньшинствам ассимилироваться.
Итак, этнонациональная политика Латвии и Эстонии выразилась в целом комплексе практических мер для закрепления приоритета «титульной» нации. Ее преимущество провозглашается, обосновывается и поддерживается на нормативном уровне.
Следствием политики в области гражданства в первую очередь стало появление категорий людей, состоящих из представителей русского и русскоязычного населения, лишившихся возможности публичного и легального отстаивания собственных интересов в политической сфере. Языковая политика в Латвии и Эстонии обусловила появление преград для развития и сохранения языков национальных меньшинств и официальную поддержку языков исключительно «титульных» наций.
В связи с тем, что институционализация национализма в двух странах Балтии неразрывно связана с идеями десоветизации, заявленное неприятие «оккупантов» и «иммигрантов» служит лишним оправданием проведения политики этнической исключительности. Дискриминация ущемленных в правах русских и русскоязычных жителей закрепляется при помощи специфичных государственных учреждений и служб. Официальные организации контролируют использование языков, общественно-политическую деятельность национальных меньшинств.
Этнический национализм стал в Латвии и Эстонии единственной основой для формирования политический нации. Его институционализация в политикопрактическом аспекте выразилась в мерах по созданию государств, основанных на идентичности этнического большинства латышей и эстонцев. Указанные меры по своей сути исказили демократические установки и обеспечивают исключение других этносов из ряда сфер общественной жизни, в первую очередь из политики.
Список литературы Этнонациональная политика в Латвии и Эстонии в контексте институционализации национализма
- Брубейкер Р. 2000. Национальные меньшинства, национализирующиеся государства и внешние национальные отечества в новой Европе. -Этнос и политика: хрестоматия (авт.-сост. А.А. Празаускас). М.: Изд-во УРАО. 400 с
- Бузаев В.В. 2007. Неграждане Латвии. -Доступ: http://www.lhrc.lv/biblioteka/Negrazhdane_Latvii.pdf
- Зазнаев О.И. 2006. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. -Казань: КазГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. 374 с