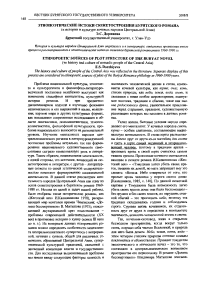Этнопоэтические истоки сюжетостроения бурятского романа (к истории и культуре кочевых народов Центральной Азии)
Автор: Доржиева Эржэна Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
История и культура народов Центральной Азии отразилась и в литературе, отдельные проявления этого процесса рассматриваются в этнопоэтических истоках сюжетов бурятской романистики 1960-1980 гг.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178410
IDR: 148178410
Текст краткого сообщения Этнопоэтические истоки сюжетостроения бурятского романа (к истории и культуре кочевых народов Центральной Азии)
Бурятский государственный университет, г, Улан-Удэ
История и культура народов Центральной Азии отразилась и в литературе, отдельные проявления этого процесса рассматриваются в этнопоэтических истоках сюжетов бурятской романистики 1960-1980 гг.
ETHNOPOETIC SOURCES OF PLOT STRUCTURE OF THE BURYAT NOVEL
(to history and culture of nomadic people of the Central Asia)
E.S. Dorzhiyeva
The history and culture ofpeople of the Central Asia was reflected in the literature. Separate displays of this process are considered in ethnopoetic sources of plots of the Buryat Romance philology in 1960-1980years.
Проблема национальной культуры, этногенеза и культурогенеза в философско-литературоведческой постановке неизбежно выступает как понимание специфики менталитета, культурной истории региона. И при предметнодисциплинарном подходе к изучению феномена национального и его выражений в языке, мышлении, картине мира и других культурных формах, как показывают современные исследования в области лингвистики, психолингвистики, этнопсихолингвистики, философской культурологи, проблема национального выносится на региональный уровень. Изучение менталитета народов центральноазиатского региона в литературоведческой постановке проблемы актуально, так как формирование национального художественного самосознания сыграло немаловажную роль в литературе. Таким образом, национальная ментальность, с одной стороны, это источник, влияющий на сю-жетостроение в литературе, с другой - литературные сюжеты со своей эстетической содержательностью помогают формированию национальной ментальности. В данной статье рассмотрим ментальность народов Центральной Азии как одну из основ сюжетостроения в бурятском романе 1960-1980 гг. Исходя из целей и задач нашей работы, были отобраны такие исторические романы, как «Жестокий век» И.Калашникова 1978), раскрывающий мир монголов времен Чингисхана; «Долина бессмертников» В. Митыпова (1975), описывающий двухвременной срез повествования -проблемы современной действительности (XX век) в противовес истории о хунну (конец III века до н. э.). На материале данных исторических романов можно определить особенности менталитета центральноазиатского суперэтноса с непрерывной, начиная с хуннов, общей для различных этнических образований Центральной Азии, суперэтнической культурной традицией, связанной с эволюцией концепции власти и государственности. Для исследования вышеназванной проблемы мы имели ввиду следующие факторы; ценность и значимость человеческой жизни в степи, компоненты кочевой культуры, как юрта, очаг, конь, стихии природы, как небо, земля, вода, огонь, и связанное с ними особое мировоззрение, именуемое экоэтика, традиции и обычаи, такие как знание родословного древа, уважительное преклонение перед старшими, предками, художественную реализацию которых мы находим в данных романах.
Уклад жизни, бытовые условия народа определяют его менталитет. У кочевых народов степь, юрта - особые слагаемые, составляющие национальную ментальность. В степи юрты расположены далеко друг от друга из-за пастбищ для скота и гость в юрте самый желанный и неприкосно венный человек, поэтому в традиции аратов -проливать кровь в своей юрте считалось самым тяжким грехом. Проявление кочевого менталитета находим в сюжете романа И.Калашникова «Жестокий век» - «Тэмуджин хотел убить своих врагов, заманив их домой, но мать запрещает ему это сделать: «Нельзя. Небо отвернется от того, кто прольет кровь человека у порога своего дома» [Калашников, 1985, с. 140]. По данной сюжетной картине у Тэмуджина была возможность легко убить своих врагов дома: они были беспомощны -без оружия и без своих воинов, но нарушить степной обычай - это прогневить небо, поэтому эта традиция складывалась годами и соблюдалась строго. Суровая жизнь кочевников, их отдаленность друг от друга и определила в менталитете значимость, ценность человеческой жизни в степи.
Так, кочевник-скотовод, живя в открытом безлюдном пространстве, когда вокруг только степь, ощущал себя частью Вселенной, и природа для него была домом. Небо, земля, огонь, вода - этим четырем стихиям природы степные номады поклонялись и обожествляли. Принцип тождества экологического и этического начал - это то, что составляло в центральноазиатском жизненном пространстве его первооснову. В романе «Долина бессмертников» Владимира Митыпова описыва-
Э.С. Доржиева. ЭТНОПОЭТИЧЕСКИЕИСТОКИ СЮЖЕТОСТРОЕНИЯБУРЯТСКОГО РОМАНА ются эти ментальные особенности кочевников. Это роман-бихронизм, где историческое прошлое синтезируется с реалистическим настоящим (жизнь археолога, поэта Олега перемежается с историзмом событий империи Модэ конца Ш в. до н. э.). За счет того, что главный герой Олег сам пишет роман, Митыпову удается форма «роман в романе». В своем романе Олег описывает жизнь хуннов в конце III в. до и. э, главным героем его романа является Модэ, повелитель степной державы Хунну. Содержание романа о хунну раскрывает нам историю Модэ - путь становления великого повелителя империи хуннов. Модэ - человек властный, жестокий, непоколебимый, целеустремленный, но и для него понятие земля, родина - святое.
«Земля - это основание государства» - вот формула Модэ, основателя хуннской империи. «Именно с этой формулировки берет начало экологический подтекст этико-политической традиции центральноазиатского суперэтноса» [Урба-наева, 1992, с. 23]. Это подтверждает монолог главного героя хуннского шаньюя (императора) Модэ в романе «Долина бессмертников» В.Митыпова: «...Земля есть начало начал. Все живое рождается на земле и, умерев, уходит в нее же. Но земля хоть и вскармливает живое, сама мертва, ибо она не размножается и не растет. Потерю стада можно восполнить приплодом оставшихся. Земли же, отданные врагу, не восполнить ничем. Земля есть основа всей державы, и земля есть основа каждого отдельного человека. Потеряв землю, человек теряет все: могилы предков, что есть одна треть его силы, кочевье, где живет он сам, что есть вторая треть его силы, юрту, где он взрастит свое потомство, что есть остальная треть его силы» [Митыпов, 1984, с. 244-245]. Олег занимается раскопками хуннских захоронений. Во время экспедиции он знакомится с Ларисой, влюбляется в нее и в долгих душевных разговорах с нею он понимает смысл существования, размышляет о роли личности в истории, задается многими другими философскими вопросами, у него появляются новые мечты и желания. Но Олег погибает; ведь в традиции центральноазисткого суперэтноса осквернять землю и, тем более трогать могилы предков — грех, поэтому по сюжету романа Олег наказан. Роман заканчивается тем, что Олег, не задумываясь, с угрозой для своей жизни спасает маленькую дочь Ларисы: «Спасти девочку могло только чудо, и поэт совершил его...Ларисе показалось, что по лицу поэта скользнула улыбка; Бессмертья, быть может, последний залог.. .Лариса не думала о прошлом. Сидя в пронизанной ревущим сквозняком, оглохшей от гула мотора кабине и обнимая бесчувст венное тело Олега, она исступленно верила, что огромный этот мир, полный древней печали и сегодняшних тревог, не может, не должен так легко и просто отпустить в мир теней еще одного своего беспокойного сказителя...» [Митыпов, 1984, с. 265]. Хотя у романа и трагический конец, герой погибает не зря, он спас жизнь ребенка, в памяти Ларисы и других людей Олег, его поступок, его стихи останутся навсегда. Человек - самая большая ценность в этом мире - такова идея романа В.Митыпова «Далина бессмертников».
Как мы говорили выше, одним из четырех стихий, которые обожествляют кочевые народы, является огонь. Обычай почитания огня есть у многих народов и уходит своими корнями в глубокую древность. Огонь - составная часть или один из главных элементов стихии, природы, универсальный фактор, воздействующий на психологию человека, его эмоционально-волевую сферу, восприятие и поведение. Первобытный человек обоготворял его, считал благодетельным существом. Почитание огня прошло длинный путь и дошло до современности. Его функция: оберегать домашний очаг, обеспечивать семейное благополучие, даровать потомство, защищать от злых сил. Огонь у монголоязычных народов символизирует очаг, а очаг - семью. Отражение этого мы видим, к примеру, в бурятских пословицах и благопожеланиях: «Ганса сусал гол болохогуй, ганса хун айл болохогуй» - Из одного палена не получится огня, из одного человека не получится семьи (пер. - ЭД); или «Г ал гуламтаяа ниилэжэ, айл булэ болобо гэ-эшэт» - Соединив огонь двух очагов, вы создали семью (пер. - ЭД). В романе «Жестокий век» И,Калашникова, когда главный герой Тэмуджин женился, шаман Теб-Тэнгри совершил обряд поклонения огню: «Госпожа очага Галахан-эхэ! Твоим соизволением рождено это племя. Так пусть же будет оно защитой жилища от злых духов, оградой от людского коварства, пусть доброе согревает, не обжигая, а злое уничтожает, ничего не оставляя. Пусть тысячи лет не гаснет огонь! Благослови очаг, Галахан-мать!» [Калашников, 1985, с. 182] (Галахан-эхэ в переводе с монг. - Огонь-мать; автор в тексте сохраняет название, таким образом, сохраняя этнопоэтическую основу). По обычаю они подносят огню «дээжэ» - кусочки мяса, капли чая, молока, вина. В романе шаман после подношения говорит: «Все. Отныне, Борте, ты жена Тэмуджина, полноправная хозяйка этого очага. А ты, Тэмуджин - ее муж, хозяин этой юрты» [Калашников, 1985, с. 182]. Итак, очаг - удел женщины^ юрта - мужчины. Чтобы у кочевника-скотовода была хорошая юрта, теплый очаг - ему нужен хороший конь. Для народов Центральной Азии конь был драгоценностью «морин-эрдэни» (конь-сокровище), и остаться
150 --------------------------------------------- без коня означало верную смерть - без коня они не могли ни кочевать, ни пасти скот. Для завоевателей конь был неразлучным другом: «снова на коне», «снова в седле». Например, в «Долине бессмертников» Модэ отдает тысячелийного жеребца в обмен на мир с дунху. Здесь князь Гийюй говорит: « Хорошая лошадь - половина победы в любой битве» [Митыпов, 1984, с. 212]. В этом отрывке В.Мигыпов показывает, насколько высоко ценился конь у кочевых племен, что во время военных действий его отдавали врагам, взамен получая мир.
Рассматривая менталитет кочевников, нельзя оставить без внимания такую исконную традицию народов Центральной Азии, как создание и передача родственникам своей родословной. Как известно, знание родословной у монголоязычных народов - одна из ведущих национальных традиций, которые они свято и неукоснительно соблюдают: дета должны знать свое родословное древо и гордиться им, особенно если у них в роду были знаменитые предки, взрослые, рассказывая своим потомкам историю своего рода, связывали их с легендами, которыми обрастали эти устные предания. И.Калашников, будучи русским писателем, отражает в сюжете своего романа и эту особенность менталитета кочевников. В сознании народа Чийгисхан и весь его род считались сыновьями неба. В романе есть отрывок, повествующий о родословной Чингисхана, о прародительнице Чингисхана Алан-гоа и непорочном зачатии ее детей: «От стариков слышал я, что много-много лет назад у владетеля Баргуджин-Токума была дочь-красавица Баргуджин-гоа. Ее взял в жены Хорилтой-мэргэн из племени хори-туматов. У них родилась дочь Алан-гоа. Хорилтой вместе с женой и дочерью прикочевал в эта места. Алан-гоа вышла замуж за Добун-мэргэна. Добун вскоре умер, оставив молодую жену с двумя сыновьями. Тут-то и начинаются чудеса. Мужа нет, Алан-гоа рожает одного, второго, третьего сына. «Как же так?» - спрашивают у нее. Алан-гоа рассказывает, что каждый вечер, как только стемнеет и на небе зажгутся звезды, в ее юрту через дымовое отверстие проникает луч света и превращается в светловолосого молодого человека. От него и дети» [Калашников, 1985, с.13]. Здесь отразился фольклорный мотив о небесном происхождении Чингисхана, о чем говорят многие монгольские источники, к примеру, «Сокровенное сказание монголов». Как видим, в приведенном отрывке подробно даны имена всех предков, в традиции монголоязычных народов - дети должны знать минимум семь колен рода. Необходимость такого обязательного знания своего родословного древа объясняется тем, что, ведя кочевой образ жизни, они долго нигде не оседали, соответственно, существовала вероятность родственных по крови браков по незнанию всех своих родственников, потому эта традиция и стала основополагающей в менталитете кочевых народов Центральной Азии.
В целом менталитет кочевника-скотовода можно понять исходя из суждений одного из героев «Жестокий век», бедняка Тайчу-Кури: «...Ему не надо ни богатства, ни славы, ни почестей, ему бы юрту, коня, несколько десятков овец и немного воли - больше ничего не нужно. Нет, еще нужно, чтобы рядом была Каймиш. И дедушка ее тоже был рядом. Вечером все сидели бы у огня, разговаривали и сушили гибкие прямые прутья харганы. Разве это много? Вечное синее небо, духи, творящие добро, помогите мне обрести желанное!» [Калашников, 1985, с. 126]. Юрта, конь, мирно пасущийся скот на пастбищах, семья и огонь в очаге, и чтобы над головой было вечное синее небо - вот главные компоненты, составляющие счастье настоящего степняка-скотовода. Таким образом, «сохраняя эпическую образную триаду: земля - человек - вселенная, бурятская художественная традиция опирается при этом на определенные реалии этого историкогеографического синтеза - степную стихию кочевой культуры и всего, что с этим связано. Именно в незамкнутой свободе и пространстве этой стихии зародились такие компоненты поэтики, как образная модель мира и дома - юрта, коновязь, степь, система динамичных сюжетов странствий и скитаний героев и другое, что в свою очередь делает художественную традицию всегда живой и действенной» [Гармаева, 2000, с. 190].
Сравнивая романы, мы пришли к выводу, что эгнопозтаческие истоки сюжетостроения исторических романов В. Митыпова и И. Калашникова рассматриваемых нами романов восходят к истории и культуре народов Центральной Азии, к их особой ментальности.
Список литературы Этнопоэтические истоки сюжетостроения бурятского романа (к истории и культуре кочевых народов Центральной Азии)
- Гармаева С.И. Национальные образы и картина мира в литературе. (К истории и культуре кочевых народов Центральной Азии)//Проблемы истории кочевых цивилизаций Центральной Азии: Материалы междунар. науч. конф. -Улан-Удэ, 2000.
- Калашников И.К. Жестокий век. Роман. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1985.
- Митыпов В.Г. Ступени совершенства. Долина бессмертников. Инспектор Золотой тайги. -Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1984.
- Урбанаева И.С. К концепции Байкальской культуры: Идея суперэтнической традиции//Философия и история культуры: национальный аспект. -Улан-Удэ, 1992.