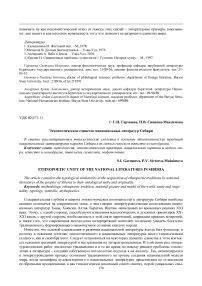Этнопоэтическое единство национальных литератур Сибири
Автор: Гармаева Светлана Искровна, Сивцева-Максимова Прасковья Васильевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: SA, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются типологические сходства в освоении этнопоэтических традиций национальными литературами народов Сибири в их онтологическом единстве и своеобразии.
Методология, этнопоэтическая традиция, национальная картина и модель мира, единство и своеобразие, типология, символика, мифопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/148181286
IDR: 148181286 | УДК: 82(571.1)
Текст научной статьи Этнопоэтическое единство национальных литератур Сибири
Содержательная глубина и широта этнопоэтических возможностей в литературе Сибири наиболее активно осознается на современном этапе, о чем говорят литературоведческие исследования национальных литератур Тывы, Хакасии, Алтая, Бурятии, Якутии, написанных во временных реалиях ХХI века. Этому, с одной стороны, способствуют изменения идеологических и духовных ориентиров ХХ-ХХI веков, с другой стороны, необходимость в этой связи перечтений, коррекции прежних воззрений, а также того, что современная методология интерпретаций позволяет по-новому увидеть богатство традиционного, формировавшего национальное сознание каждого народа
Известно, что основой становления и развития национальной литературы всегда был фольклор, и поэтому в освоении эстетики этнопоэтического в национальных литературах много типологически сходного, как и своеобразного. Следует остановиться на некоторых аспектах единства в этом контексте освоения традиций литературой и исследования их литературоведением. В этой связи ряд литературоведческих работ достаточно традиционно и в то же время по-новому решают проблемы этнопоэтики в литературе – создавая собственную методологию подхода к их анализу. Так, активизируется в литературоведении процесс осознания традиционного на уровне создания национальной модели мира, когда специфика художественного в национальных литературах представлена не отдельными ее образными проявлениями, а как типологически освоенный синтез многих, порой уникальных смы- 150
слов, в связи даже с миром образов, утраченных в жизни народов сегодня, но участвующих в накоплении знаний о жизни, способствуя созданию целостного взгляда на мир с помощью как присутствующих, так и утраченных реалий жизни. Так, типологически сходно осваивается в национальных литературах и изучается литературоведением художественный образ природного и вещного мира.
В работе Н. Алексеевой «Этнопоэтическое своеобразие природного и вещного мира в литературе народов Сибири» исследования этнопоэтического своеобразия бурятской, эвенкийской, якутской прозы и поэзии позволяют исследователю прийти к методологически важным, на наш взгляд, концепциям и выводам. Такие природные реалии, как образы степи, аласа (тундры), тайги, солнца, звезд и луны создают возможность моделирования горизонтального и вертикального мира, т.е. сферически сложную картину мира и его восприятия. В результате укрепляется сам архетип образа Земли и родины, связанные с ним понятия места человека: человек может быть спасен, укрепляя свои добродетельные силы связью с землей, породившей его, возвышая ее своей любовью. Родовое начало, заложенное в природных реалиях жизни народов Сибири, связано с актуальностью идеи памяти, духовной преемственностью поколений. Но в этом же архетипе природы и природного сегодня много тревожного – степь вытесняется асфальтом, бетоном. В якутском поэтическом сознании только горсть взятой с собой «своей» земли спасает человека в «чужом» пространстве. Анализ автором якутской поэзии показывает, что образ аласа (большого обжитого жизненного пространства в огромном необжитом мире космоса) – это микрокосм, куда можно вернуться, чтобы вновь обрести умиротворение и утраченную цельность мировосприятия. Природные реалии, создающие образ родины, связываются с такими понятиями, как надежная опора, защита, твердь под ногами, ориентиры спасения, т.е. всего того, что позволит этносу достойно существовать в условиях все более глобализирующегося мира.
Интересно в освоении этнопоэтического богатства своего народа и то, что литература, по мнению исследователей, активно опирается на так называемые «уходящие» образы. В век технического прогресса эстетика уходящих из национальной жизни реалий не утрачивает своей образной семантики – образы коня – в бурятской поэзии и прозе, оленя – в якутской и эвенкийской и др. Художественные модели, где они присутствуют в литературе, способны обострить опасения перед назревающей бездуховностью мира, и такая анималистическая ностальгия создает духовную опору для сохранения национального в себе. Одновременно притягиваясь и отталкиваясь от исчезающих реалий национального мира, писатели создают для себя новые критерии духовного, истоки которых сохранены, даже если они исчезают из реальной жизни. Особенно примечательно притяжение литературы к таким этнореалиям вещного и духовного в их образе как коновязь ( сэргэ ) в бурятском и якутском жизненном обиходе в тесной связи с образами дома, очага, юрты и тордоха (бурятского и якутского жилища), где коновязь, объединяя все воедино, становилась средоточием жизни, неся в себе и трагическое – время заставило человека отказаться от коновязи. Поиски целостности и гармоничности как идеала приводят литературу к особому осознанию и освоению природного начала, уходящих из жизни народов этнореалий и процесс этот типологически актуален во всех проявлениях национальных литератур. Пробуждение национального этнического самосознания заставляет литературу проникать в более потаенные глубины национального самосознания, глубины его этнопоэтических кладовых.
Тувинский исследователь А. Херел в работах «Формы традиционной культуры тувинцев» и «Ценностные установки тувинской драмы» выделяет в качестве этнопоэтической основы художественной драмы эстетику шаманского камлания. Заметную роль эстетики шаманского действия в становлении тувинской и хакасской драматургии исследователи Н. Майногашева и А. Херел видят в драматизации действий героев на сцене, истоки которых в этнокультурном пространстве этих народов и их литератур предопределены реализмом самой жизни хакасов и тувинцев, бурят и якутов. Шаманские действия в их строго композиционной выстроенности, наличие зрителя и его сопереживания становились содержательной основой катарсиса литературной драмы. Волшебство диалога шамана с высшими силами способствовало созданию возвышенного, так необходимого искусству и сегодня. Типологическую и методологическую общность театрализаций шаманских действий с профессиональным театром исследователи видят в многоголосии и полифонизме обращений к духам, к себе самому, в умении реагировать на тайные и явные проявления природы и человека – такой сильный комплекс воздействия шаманских ритуалов следует рассматривать как творчество, способное изменять жизнь, – именно такие задачи призвано выполнять в жизни общества искусство литературы.
Первая тувинская пьеса, написанная профессиональным драматургом В. Кок-оолом, в переводе звучащая «Ах, жизнь моя горемычная», отмечает исследователь А. Херел, положившая в синтез сюжета известную легенду о скале, откуда девушки бросались за нежелание быть выданной замуж на- сильно, реализует архетип невесты – одно из этнопоэтических популярных образных средств поэтики в создании многих жанров национальной литературы Сибири, особенно в становлении романной жанровой формы, примерами которых могут стать в алтайской литературе – роман Л. Кокышева «Арина», в бурятской – роман Б. Мунгонова «Хилок наш бурливый» и повесть Ч. Цыдендамбаева «Бурятка» и др.
Другим явлением этнопоэтического единства в национальных литературах Сибири следует рассматривать тенденции взаимодействия культурных и этнокультурных традиций, создающих целостную картину мира за счет проявления вертикальной и горизонтальной слагаемых фольклорнопоэтических средств, в результате чего сферическая картина мира в литературе становится сакрально укрепленной и философски обогащенной. Формирование структурно-семантических принципов и методов анализа вызвало в национальных литературах и литературоведении определенную активизацию мифопоэтических принципов и способов подхода к изучению произведения. В работе «Взаимодействие культурных и этнопоэтических традиций в национальной картине мира бурятских поэтов 1960-1980 гг. Лирика Д. Улзытуева и Ц.-Д. Хамаева» автор А. Матуева исследует бурятскую лирику этого периода как единую, но сложно организованную образность, что позволяет говорить, по мнению исследователей, о философском национально-историческом осмыслении картины мира. Трансформации традиционных образов, национальных символов, легенд и преданий, этнологических реалий открывают новые возможности освоения этнопоэтики при отражении реальной действительности. Говоря об этнопоэтических особенностях хакасской прозы 1930-1990 гг. в работе «Фольклоризм хакасской прозы 30-90-х гг.», исследователь Л. Челтыкмашева отмечает, что в хакасской прозе ХХ века усиливалось мифологическое начало, особенно в исторически переломных ситуациях острой становится потребность в национальной нравственной самоидентификации и обращениях к истокам, выверенным временем. Исследователь отмечает, что в освоении хакасскими писателями сходных фольклорно-мифологических образных структур, таких как конь, дерево, огонь, гора, архетипа невесты, мудрого старца и других, осваиваемых национальными литературами народа Сибири, много тематических и идейных схождений. Кроме того, исследователь отмечает общую методологическую основу этнопоэтических схождений в литературах тюрко-монгольского ареала в освоении сказочной поэтики при создании литературного сюжета, литературного героя как эпического человека, внутренне и внешне красивого и возвышенного, – такой богатырский идеал эпического в человеке присущ всем героям национальных литератур, особенно романным. Исследователем Л. Челтыкмашевой отмечается и другой процесс, типологически присущий всем национальными литературам, – тенденция усложнения в освоении и восприятии этнопоэтической образности, когда закономерно преодолевается фольклорное притяжение, создавая новые тенденции новой эстетики реалистического письма, – хотя и сохраняются при этом типичные для семантики фольклора противопоставления (свой – чужой, богатый – бедный и др.), находя при этом новое в понимании и восприятии природного, сказочного при их создании. Фетишизируя их, писатели идут к особой концепции мира, человека и природы, где именно геоландшафт во многом позволяет говорить о единстве и своеобразии человека лесного, степного, охотничьего пространства. Будучи универсальными выражениями ментального, эт-нопоэтические традиции дают писателю возможность постигать глубины народной мысли, создаваемые и проверенные сознанием народа – фольклорно-мифологические образы сходны во всех литературах Сибири (конь, огонь, солнце, луна, священная гора, птица и др.) и являются идейноэстетическими составляющими структуры произведения. Именно такая сферически сложная семантика этнокультурной традиции дает возможность национальным литературам Сибири вписываться в общелитературный контекст. И в определении национальной картины мира бурятской поэзии, ее эт-нопоэтических традиционных реалиях выявилась близость представлениям о строении мира в вертикали и горизонтали Ю. Лотмана и М. Бахтина, В. Топорова и Г. Гачева, но созданные через близкое, мифопоэтическое узнаваемое (степь, мировое древо, гора, путь и др.), подтвердив тем самым мысль об универсальности художественного сознания как такового.
И наконец, еще один аспект этнопоэтического сходства в национальных литературах Сибири. Хотелось обозначить, где также типологически сходно проявляют себя многие этнопоэтические традиции народов в их эстетическом единстве. Следует в этой связи обратить внимание на сформировавшие художественные модели с участием архетипа невесты и образа пояса-кушака, связанных в этих моделях в особом единстве и своеобразии. Данный аспект этнопоэтического сходства и своеобразия литератур Сибири исследуется в хакасском литературоведении Ю.И. Чаптыковой в работе «Фольклорно-поэтические истоки прозы И. Костякова», в бурятском – С. Гармаевой «Национальные реалии как факторы формирования художественного сознания» и других. В бурятской романистике фактором своеобразного и в то же время типологически сходного с моделями национального с другими литературами народов Сибири стала идейно-тематическая основа романа бурятского прозаика Б. Мунгонова «Хилок наш бурливый» и хакасского романа И. Костякова «Шелковый пояс». Национальная модель мира создается в них с помощью национальных символов, обрядов и ритуалов их соблюдения и исполнения, что становится в творческом процессе писателя источником художественного, философского освоения жизни. Общеизвестные у многих народов и по эпосу сюжеты сватовства невесты в этих двух романных пространствах двух сибирских народов объединились символом пояса-кушака. Картина этнопоэтического единства методологически и типологически построена, с одной стороны, на ситуации эпической предопределенности невесты и жениха друг к другу, с другой – на эффекте, когда мотив предопределенности обогащается художником, писателем естественными, но в каком-то смысле противоречащими мотивами подчинения и покорности. Трудность его воплощения состоит в том, что эпический мотив предназначенности продолжается идеей преемственности поколений отцов и детей – народная эпическая традиция трансформируется творческим сознанием писателя, превращаясь с помощью национальной формы, восходящей к традициям предназначения невесты в жены богатырю, в острую и насущную проблему преемственности, где обряд сватовства способствовал организации этой романной формы и ее идеи – в обоих романах (бурятском и хакасском) присутствует один и тот же символический образ пояса-кушака. Отцы малолетних детей в романе бурятского прозаика Б. Мунгонова обмениваются кушаками – широкими, яркими шелковыми поясами в знак того, что их дети в будущем станут мужем и женой, достойно продолжив нравственные заповеди отцов, строителей новой жизни. Взламывая изнутри пределы традиционного обряда и ставя его на службу реализму, когда сущность человеческой жизни может быть ограничена рамками какой-либо предопределенности, автора не оставляет без внимания еще одна эстетическая возможность, заложенная здесь – энергия избранничества – поэтика обряда с его накопленным опытом мудрости приобретает в литературе особую и глубокую смысловую значимость. Создается иной уровень осознания традиций и их места в творческом процессе писателей, когда символические коды обряда, соединившись с предназначением и определенной заданностью обряда, делают реалистический сюжет обоснованным и логическим. В моделировании национальной картины мира все более активной в национальных литературах Сибири становится установка на фольклорное, стадиально архаичное, творчески актуализированное писателем наполнение и обогащение обряда новым этическим и нравственным смыслом. Типология такого освоения традиционного в национальных литературах расширяет границы повествования, реализуя многие конфессиональные и философские мотивы, отражающие особенности менталитета народа в сходных условиях духовной среды ареала.
Определенное этнопоэтическое единство этого обряда можно наблюдать в другом сюжетном развороте этого контекста событий, связанных с художественной ситуацией романа хакасского прозаика И. Костякова «Шелковый пояс», который вобрал в себя традиции национальной культуры, национального мира хакаса, во многом сформировав с их помощью эстетику и поэтику романа. Возникший в поэтике хакасского романа образ шелкового пояса-кушака – это не только атрибут и символ национального обряда здесь, но он (пояс) выполняет функции оберега – охранного чувства, присущего всем народам, живущим в экстремальных условиях сибирской природы и климата выживания, формирующих и своеобразие их художественного мышления. Опора на народно-поэтическую семантику пояса позволила Костякову расширить и укрепить свое романное пространство – прежде всего мифологическим историческим и нравственным разворотом повествования: именно пояс, сохраненный героями романа в перипетиях Великой Отечественной войны с фашизмом становится и символом продолжения рода двумя любящими друг друга людьми. Таким образом, эстетика пояса и кушака связала собой этнопоэтически единые картины в типологически целостный процесс освоения традиционных средств, обогащающих литературу новым содержанием художественного.
Как видно, в национальных литературах народов Сибири в освоении этнопоэтического богатства сложилось много типологически и методологически сходного. Это объясняется многими, не только историческими и политическими, факторами – в своем становлении они прошли сходные этапы формирования задолго до появления собственного письменного художественного творчества. Исследователь тувинского фольклора З. Самдан в работе «Лики тувинской словесности» отмечает, что мотивы и образы древних волшебных и богатырских сказок тюркских и монгольских народов Центральной Азии говорят о сходстве в них эпических сюжетов уже на ранних стадиях, так же как Гэсэр является героем не только бурятского эпоса. По мнению ученого, идея избранничества говорит о миро- воззренческой общности тюрко-монгольских народов. Единство этнокультурных традиций кочевых народов Центральной Азии, проявляющееся в литературе, следует считать явлением необходимым и закономерным – геоландшафтные, бытийные факторы объединяют эти народы как представителей кочевой, скотоводческий и охотничьей культуры, поэтому и наполнения традиционных образов, символов были народно узнаваемыми и едиными в их философско-семантических проявлениях в литературном тексте.
Определенные этнопоэтические схождения в создании аспектов национального в художественных моделях и картине мира создаются в результате повторяемости слагаемых (мифов, легенд, архетипов и др.). Другой общей тенденцией освоения этнопоэтики являются процессы все большего усложнения смыслов в творческом процессе писателя, когда в результате трансформации фольклорнопоэтические модели и образы становятся более сакральными и философски наполненными и значимыми.
Методология этнопоэтического познания укрепляет и обогащает литературу новыми средствами и способами подхода к созданию художественного произведения и его научной, эстетической интерпретации. Все эти сформировавшиеся факторы в литературоведении позволяют говорить о том, что этнопоэтическое единство национальных литератур Сибири вписывает их в общелитературный и культурный контекст, что в свою очередь становится стимулом становления профессионального литературного мастерства и самой науки о литературе.
Гармаева Светлана Искровна , доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы Бурятского государственного университета, дом. тел: 21-89-36, деканат филологического факультета: тел: 2105-91.