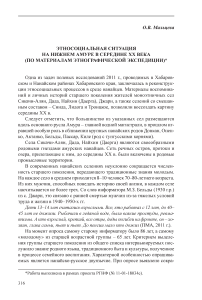Этносоциальная ситуация на Нижнем Амуре в середине ХХ века (по материалам этнографической экспедиции)
Автор: Мальцева О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521776
IDR: 14521776
Текст статьи Этносоциальная ситуация на Нижнем Амуре в середине ХХ века (по материалам этнографической экспедиции)
Одна из задач полевых исследований 2011 г., проводимых в Хабаровском и Нанайском районах Хабаровского края, заключалась в реконструкции этносоциальных процессов в среде нанайцев. Материалы воспоминаний и личных историй старшего поколения жителей моноэтничных сел Сикачи-Алян, Дада, Найхин (Даерга), Джари, а также селений со смешанным составом – Синда, Лидога и Троицкое, позволили воссоздать картину середины ХХ в.
Следует отметить, что большинство из указанных сел размещаются вдоль основного русла Амура - главной водной магистрали, в прошлом игравшей особую роль в сближении крупных нанайских родов Донкан, Онен-ко, Актанко, Бельды, Пассар, Киле (род с тунгусскими корнями).
Села Сикачи-Алян, Дада, Найхин (Даерга) являются своеобразными родовыми гнездами амурских нанайцев. Сеть речных остров, протоки и озера, прилегающие к ним, до середины XX в. были включены в родовые промысловые территории.
В современных нанайских селениях неуклонно сокращается численность старшего поколения, передающего традиционные знания молодым. На каждое село в среднем приходится 8–10 человек 70–80-летнего возраста. Из них мужчин, способных поведать историю своей жизни, в каждом селе насчитывается не более трех. Со слов информатора М.З. Бельды (1930 г.р.) из с. Джари, это связано с ранней смертью мужчин из-за тяжелых условий труда и жизни в 1940–1950-х гг.
Дети 13 – 14 лет считались взрослыми. Все, кто работал с 12 лет, до 40 – 45 лет не дожили. Рыбачили в ледяной воде, были всякие простуды, ревматизмы. А кто взрослый, крепкий, все отцы, деды погибли на фронте, он – хозяин, глава семьи, пьет и пьет. До пенсии мало кто дожил (ПМА, 2011 г.).
На момент опроса самому старому информатору было 86 лет, а самому «молодому» из старшей возрастной группы - 65 лет. Критерием выделе -ния группы старшего поколения из общего списка интервьюируемых послужило знание родного языка, традиционного быта и культуры, полученное в процессе семейного воспитания. Характерной особенностью опрашиваемых является нанайско-русское двуязычие. При опросе выявлено сокра- щение запаса традиционных терминов, характеризующих: окружающий ландшафт, растительность, части при разделке рыбы, детали лодки и т.д. Обиходные глаголы (к примеру, «шел», «был», «стал») заменяются русскими эквивалентами. По мнению информаторов, язык исчезает из практики общения с ростом русскоязычного окружения. В домашней обстановке дети на 50 % еще знают нанайские слова и выражения, а внуки зачастую уже не владеют языком. Со слов М.Г. Кимонко (с. Дада, 80 лет), в 1980-е гг. в автобусе можно было услышать нанайскую речь, а спустя 30 лет – заходишь в автобус и слышишь только русскую речь.
Многие представители старшего поколения сходятся в оценке прошлого, приведшего к настоящей языковой ситуации. У рожденных в конце 1920– 1930-х гг. молодость пришлась на военное и послевоенное время. Период с 1920 по 1940-е гг. – переломный этап не только в отечественной истории, но и в судьбах коренного населения Приамурья. Утверждение советской власти на Дальнем Востоке с масштабными мероприятиями коллективизации, промышленного строительства, укрупнения сел сопровождалось разрушением местного традиционного быта и системы воспитания.
В беседе с представителями старшего поколения появилась возможность взглянуть на исторические процессы, обусловившие изменения социальной и культурной жизни, через призму их личностного восприятия. Базой послужили воспоминания детства, семейные легенды, рассказы родителей. У многих годы детства и юности прошли в селениях и стойбищах, расположенных вблизи современных населенных пунктов. Раньше село Сикачи-Алян состояло из трех селений – Сикачи, Алян и Гасян. Напротив сел Найхин, Синда, Дада и Лидога существовали селения Дондон, Торгон, Муха, Курун и Ламами. До 1930-х гг. нанайские семьи жили в основном в стойбищах, располагавшихся на островах, закрепленных за определенными родами. С наступлением заморозков семьи перебирались на берег, в зимние глинобитные жилища. Однако многие продолжали жить на островах в землянках. По рассказу Р.А. Бельды (с. Найхин, 1946 г.р.), у людей существовал суеверный страх перед «большим берегом», сильно заросшим, с многочисленными ходами в виде просек, «оставленных Драконом».
Плановое переселение на амурский берег началось с административных реформ, проводимых в рамках коллективизации. Михаил Зарасович Бельды (с. Джари) помнит, как начиналось колхозное движение.
Когда колхозы начали организовываться в 1936–1937 гг., со всех сел людей возили. Зимой все вместе живут. Весной, летом все уходят на левый берег, на островах живут. Имеют там свои огороды. Осенью все вместе собираются на кетовую рыбалку… Их всех собрали в колхоз на Джари. Со всех сел людей возили, возили. У деда были лошади – 8 штук, он раздал всем сыновьям. Возили дрова, рыбу, на рыбалку ездили. Из круглого леса дом делают, в нем надо 2 – 3 года пожить, потом переезжают на Джари… Колхоз организовали, провели собрание. У кого-то коровы были, ферму организовали. Открыли школу, магазины. Нанайцам это понравилось.
Большую роль в коллективизации Нижнего Приамурья сыграли спец-переселенцы, с которыми с 1930-х гг. вступали в контакт аборигены. Они располагались небольшими поселениями на островах, в таежных дебрях, на значительном расстоянии от русла Амура. Некоторые семьи, перебравшись в селения на Амуре, стояли у основания организации поселковых советов, рыббаз и других форм административного управления.
По рассказам пожилых людей, первоначально села Синда, Троицкое, Найхин и Курун состояли из отдельных жилых участков, разделенных лесными полосами. В с. Синда, на значительном расстоянии от поселения нанайцев, находилось поселение выходцев из Белоруссии. Троицкое включало три населенных пункта - с. Джари (Дярикта - нанайск. «ягоды боярышника») с расположенными по береговой кромке нанайскими домами, само Троицкое (первоначальное название Доли - «половинка»), ставшее административным центром, район Городок с русскими поселенцами. В после -военное время, с исчезновением «лесных» границ, зоны поселения нанайцев и русских слились.
В 1930–1950-х гг. интенсивно шел процесс культурной, социальной и трудовой интеграции амурских нанайцев с русскими. В береговых селениях строительство рыббаз, цехов по засолке и консервации рыбы сопровождалось строительством магазинов и медпунктов, что вызвало большую волну переселений из стойбищ. Возводились новые дома для рыбаков.
Нанайцы переселялись в поселки большими семьями, с пожилыми людьми. Привязанность к традиционному быту еще какое-то время сохранялось на новом месте. Об этом свидетельствует характеристика построек того времени.
С.С. Бельды (с. Найхин, 1933 г.р.), Р.А. Бельды (с. Найхин, 1946 г.р.) рассказали, что их дедушки с бабушкой не могли привыкнуть к бревенчатым домам. На новом месте возводили дома смешанной конструкции, состоящие из деревянной половины, где жила молодая семья, и глинобитной половины для стариков. В деревянной части находилась печка, а в глинобитной (чаще всего это была пристройка) – кановая система отопления (по периметру дома от центрального очага протягивался дымоход, обогревающий расположенные над ним нары). Встречались также бревенчатые дома с канами .
После войны глиняный пол с протянутым под ним дымоходом в жилищах заменили холодным подполом, где хранили картофель и другую огородную продукцию. В те годы сами нанайцы, как уверяет Р.А. Бельды, к занятию огородничеством относились сдержанно. Раньше для возделывания огородных культур обычно приглашали китайцев. Дед Р.А. Бельды был единственным нанайцем в с. Дада, выращивавшим картофель, бахчевые и сливы. Сельчане над ним посмеивались. Но русское окружение повышало престиж земледелия.
На первом этапе колхозного строительства между русскими поселенцами и аборигенами возникали своеобразные формы взаимопомощи и об- мена, базирующиеся на натуральном хозяйстве. А.К. Бельды (с. Даерга, 1941 г.р.) считает, что русские внесли большой вклад в ознакомлении нанайцев с новыми видами деятельности и продуктами.
Раньше коров не держали. Приехала семья русских. Владимир Семенович Щука был председателем от бога. Его мама, старая женщина, учила наших женщин как коров доить. Как сажать огурцы, овощи.
М.Г. Кимонко (с. Дада) вспоминает, что в Гасях жили ссыльные русские.
Отношения с ними были дружественными . Они держали коров. Они нам молока, а мы им – рыбу, ягоды.
Безвозмездная помощь ссыльным русским оказывалась нанайцами и в рамках колхозного обеспечения. В.Ч. Гейкер (с. Лидога, 86 лет) рассказал, как жили на Куруне русские и нанайцы.
Разницы не было: что русские, что нанайцы. Жили дружно. На рыбалке распоряжались деды. Рыбу наловим и по мешкам ее раскладываем. В лодке везем в эти самые семьи (русским). Они знают и выходят из дома, нас встречают. Им отдаем рыбу в мешках.
Обучение нанайцев русскому языку в школах являлось главным пунктом строительства социализма на селе. Система обязательного обучения распространялась как на взрослую, так и детскую аудиторию.
Все учились – дети и взрослые, мужчины и женщины (М.З. Бельды, с. Джари) .
Как правило, в начальных классах ознакомление с предметами велось на нанайском языке, а с 5 класса переходили на русский. Был большой отсев учащихся, неготовых понять новую речь. Некоторым приходилось сидеть по 2–4 года в одном классе. Преподавание в школе не довлело над семейным воспитанием. После уроков дети возвращались в привычную атмосферу Одновременно существовали школы-интернаты, где дети вынуждены были находиться, когда родители длительно отсутствовали на промысле. Отлучение от дома приводило к потере знания родного языка как средства общения.
В рамках новой идеологии ставка делалась на успешных людей, которые своим личным примером воплощали идеал строителя социализма. К примеру, в нанайской среде председатели первых объединенных колхозов демонстративным отказом от ношения традиционной одежды (с заменой ее на рубашку и брюки) воплощали новые нормы жизни. Развернувшееся строительство сельских клубов, школ, магазинов, больниц, почтамтов и библиотек; проведение субботников и воскресников, участие в художественной самодеятельности способствовали сближению русских и нанайцев в статусе граждан социалистического государства. Этносоциальные процессы середины ХХ в. предопределили современную ситуацию среди нанайцев Нижнего Амура.