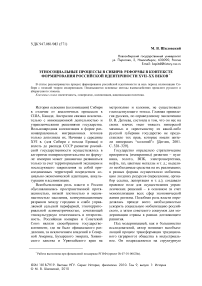Этносоциальные процессы в Сибири: реформы в контексте формирования российской идентичности XVII-XX веков
Автор: Шиловский Михаил Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс формирование российской идентичности за весь период колонизации Сибири с позиций теории модернизации. Показываются основные методы взаимодействия пришлого русского и аборигенного этносов.
Идентичность, "инородец", колонизация, национальная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737164
IDR: 14737164 | УДК: 947.081/083
Текст научной статьи Этносоциальные процессы в Сибири: реформы в контексте формирования российской идентичности XVII-XX веков
История освоения (колонизации) Сибири в отличие от аналогичных процессов в США, Канаде, Австралии связана исключительно с инновационной деятельностью и управленческими решениями государства. Вольнонародная колонизация в форме разнонаправленных миграционных потоков только дополняла их. Начиная с середины XVI в. (для Сибири с похода Ермака) и вплоть до распада СССР развитие российской государственности осуществлялось в алгоритме империостроительства по формуле: империя может динамично развиваться только за счет территориальной экспансии и последующего закрепления за собой присоединенных территорий посредством социально-экономической адаптации, аккультурации и ассимиляции.
Всеобъемлющая роль власти в России обуславливалась пространственной протяженностью, низкой плотностью и неком-пактностью заселения, коммуникационным разрывом между городами и слабо управляемой сельской периферией, этнотеррито-риальной асимметричностью, сочетающей этнокультурную гомогенность и гетерогенность. Российская империя и Советский Союз являли своеобразное государство-континент, где не было официального разделения, за исключением владений в Северной Америке, Бухарского эмирата, Хивинского ханства и Урянхайского края на метрополию и колонии, не существовало господствующего этноса. Главная привилегия русских, по справедливому заключению В. В. Дегоева, состояла в том, что он нес на своих плечах «всю тяжесть имперской махины» и «крестьянству из какой-либо русской губернии государство не предоставляло тех прав, которые имели жители имперских “колоний”» [Дегоев, 2001. С. 328–329].
Государство определяло стратегические приоритеты (императивы) развития – пушнина, золото, ВПК, электроэнергетика, нефть, газ, цветные металлы и т. д.; выделяло необходимые средства на их реализацию; в разных формах осуществляло мобилизацию людских ресурсов (переселение, оргна-бор ссылка, депортация и т. д.); создавало правовое поле для осуществления управленческих решений – в основном за счет монополизации всех сфер экономической жизни региона. Подобная роль власти определялась прежде всего необходимостью ускорить социальную мобилизацию российского, а затем советского социумов для модернизации страны в рамках догоняющего развития.
Под модернизацией, как и большинство исследователей, автор понимает всеобъемлющий процесс трансформации традиционного (аграрного) общества в индустриальное. Он подразделяется на структурную
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 07-01-00420а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История
и функциональную дифференциацию, индустриализацию, урбанизацию, коммуникативную и образовательную революции, формирование гражданского общества и т. д. Достаточно подробно, в том числе на материалах региона, изучены процессы социально-экономического, демографического и культурного развития. В рамках модернизационной парадигмы ниже я попытаюсь в самом общем виде охарактеризовать усилия государства в области регулирования и воздействия на этносоциальные процессы в Сибири с целью формирования российской идентичности за все время ее освоения.
Появление русских за Уралом и быстрое продвижение их к Тихому океану обусловливались прежде всего необходимостью пополнения казны за счет ясака. Стоимость полученной таким образом пушнины составляла к середине XVII в. до 40 % поступлений в государственный бюджет, сыграв роль реального «стабилизационного фонда» в преодолении катастрофических последствий Смуты конца XVI – начала XVII вв. Реализация этой стратегической задачи осуществлялось за счет полупринудительного «объясачивания» аборигенов. Одновременно происходило взаимопроникновение культур коренных обитателей региона и колонистов с параллельной консервацией традиционного быта и культуры инородцев. Можно согласиться с выводом А. А. Преображенского: «Остается историческим парадоксом, что “цивилизованные” западноевропейские державы того времени уже вовсю вели истребительные войны, очищая от “дикарей” целые континенты, загоняя в резервации уцелевших туземных жителей. А варварски-азиатский российский царизм в отсталой стране к присоединенным народам старался не применять насильственных методов» [Преображенский, 1972. С. 171].
Названный парадокс объяснялся прежде всего фискальными соображениями. Необходимость сбора ясака заставляла власть действовать по отношению к коренному населению, как подчеркивалось в документах того периода, «не жесточью, а лаской». Массовые злоупотребления и произвол на местах порождали специальные распоряжения типа принятого в 1695 г. «О нечинении казней и пыток сибирским инородцам ни по каким делам без доклада государю, об охране их от обид, налогов и притеснений». «Так складывалась своеобразная система покровительства “туземцам”, – справедливо замечает Н. С. Модоров. – Этого не было в практике западноевропейских колонистов. Если для Москвы туземец служил источником дохода, а поэтому подлежал охране, то для западных искателей земель и промысловых угодий туземец-дикарь был опасным конкурентом и подлежал уничтожению. Поэтому-то при освоении Северной Америки ее аборигены подверглись массовому уничтожению. В Сибири все было наоборот. Численность, например, алтае-саянских народов за два века возросло более чем в шесть раз» [Модоров, 1996. С. 67]. Тем не менее к XVIII в. русские в Сибири численно превосходили коренное население в три раза, к середине XIX – в четыре, а в начале ХХ в. – уже почти в восемь раз. Однако именно компромиссы, на которые в отношении аборигенов шли сибирские воеводы, в XVII в. заложили «обстановку той толерантности, которая и в дальнейшем послужила базой для сохранения традиционных культур и коренных народов в целом» [Люцидарская, 2004. С. 57].
Итоги накопленного местными властями опыта в сфере национальной политики нашли отражение в «Уставе об управлении инородцев» (1822 г.), разработанном М. М. Сперанским и Г. С. Батеньковым в рамках 10 нормативных актов, составивших так называемое «сибирское учреждение». В основу закона легли следующие принципы: разделение коренного населения с точки зрения организации самоуправления на три разряда в соответствии с родом занятий и образом жизни (оседлые, кочевые, бродячие); ограничение опеки над ним со стороны администрации; введение свободной торговли с аборигенами. За ними закреплялись земли, на которых они обитали и запрещалось самовольно селиться на них. Целью разрядной системы являлся перевод бродячих и кочевых инородцев по мере успехов в хозяйственном развитии в разряд оседлых, т. е. их уравнение с местными русскими крестьянами. В свою очередь, «задача постепенного перехода бродячих и кочевых жителей в категорию оседлых была основана на успехах хлебопашества, – замечает Л. М. Дамешек, – а распространение земледелия в хозяйстве коренного населения уже само по себе было положительным явлением» [Дамешек, 1975. С. 38].
В длительной же перспективе национальная политика самодержавия по отношению ко всем этносам империи преследовала цель их постепенную ассимиляцию и аккультурацию. А. С. Хомяков писал в 1839 г.: «Россия приняла в свое великое лоно много разных племен: финнов, прибалтийских, поволжских татар, сибирских тунгусов, бурят и др.; но имя, бытие и значение получила она от русского народа (т. е. человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединяться с этой великой личностью; ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую самобытность» [Хомяков, 1998. С. 102]. Поэтому будущее инородцев виделось в переводе их на оседлость, в приобщении к православию и западному образу жизни. Для этого миссионерский съезд в Иркутске еще в 1886 г. рекомендовал провести размежевание земель аборигенов и посадить их на душевой надел земледельца. Освободившиеся земли предлагалось передать в пользование русским крестьянам-переселенцам с одновременной ликвидацией аборигенных органов самоуправления и переводом их на действующую для крестьян систему управления.
Реализация этих предложений началась в конце XIX в., когда правительство взяло курс на стимулирование крестьянских миграций в Сибирь с целью снять остроту аграрного вопроса в Европейской России. Для формирования колонизационного земельного фонда серией нормативных актов 1896, 1898, 1899, 1900 гг. происходит планомерное ограничение землепользования коренных жителей, имеющее целью перевод их на оседлость, отмену ясака, дабы «сравниваться с россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают». Фактически единственным существенным отличием этой категории инородцев южной Сибири от русских крестьян к 1917 г. являлось освобождение их от воинской повинности. Можно согласиться с выводом Г. В. Оглез-невой, что для православного духовенства «обрусение важнее, чем формальное крещение». По этому поводу названная исследовательница отмечает: «Объясняется это убежденностью миссионеров в том, что бурят и без того верит в превосходство православной веры над языческой и задача миссии – “уговорить его запечатлеть эту веру крещением”. А приняв крещение, бурят сделается русским. Такое смещение этнического и конфессионального признаков, отождествление понятий “православный” и “русский” было характерно не только для духовенства, но и для правительственной политики в общественном сознании России конца XIX – начала ХХ в.» [Оглезнева, 1994. С. 144].
При этом власти рассматривали переселение в Сибирь в духе концепции «плавильного котла», как способ ассимиляции «недружественных» этносов. Нормативным актом от 15 апреля 1896 г. местной администрации предписывалось «переселенцев нерусского происхождения, по возможности, включать в состав обществ переселенцев русского происхождения». Обозреватель «Русского вестника» тогда же предложил «всемерно способствовать выселению или переселению чуждых нам элементов, немецких выходцев, с мирно завоеванных ими мест на Восток, в Сибирь, в киргизские степи» [Тихонов, 1896. С. 388]. Действительно «одним из эффектов колонизации была русификация самих переселенцев. На новых землях, часто в условиях инородческого окружения, казачья или малорусская специфика оказывалась менее значимой, а черты общности с великоросами акцентировались, ассимиляционные процессы ускорялись, утверждалась общерусская идентичность» [Миллер, 2002. С. 141].
Переселение и землеустройство, понуждавшие кочевников к переходу на оседлость, многими современниками и исследователями рассматривались как главные элементы их русификации, усиления русского присутствия на восточной окраине империи. Поэтому в сознании многих россиян представление о Сибири как о неотъемлемой части национальной территории утверждается только в начале ХХ в. Альтернативные же варианты решения «инородческого вопроса», сформулированные либералами и народниками, включая сибирских областников, также апеллировали к всемогущему государству. «Благоприятное разрешение остяцкого вопроса, – писал в 1888 г. посетивший Нарымский край А. В. Адрианов, – если рассуждать теоретически, возможно, но для этого нужно, во-первых, организовать медицинскую помощь, во-вторых, не только казне не эксплуатировать инородца, но оградить его от кулаков, дать инородцу кредит, не посылать миссионеров и попов в ссылку за пьянство и проступки, как это делается теперь; при перемене экономических условий непременно началась бы ассимиляция путем браков с русскими, что имеет место и сейчас, но редко, потому именно, что русский, женясь на инородке, к податям прибавляет бремя ясака и новых повинностей» [Адрианов, 2007. С. 102].
Таким образом, в начале ХХ в. империя напряженно искала ответы на национальные и модернизационные вызовы. Однако курс на форсированное переселение и соответствующий перевод «инородцев» на оседлость привели в рассматриваемое время к существенному ухудшению этнополитической ситуации в Сибири. Изменение положения в аборигенной среде отразилось на конфессиональной ситуации у них. С одной стороны, ударными темпами осуществлялось их приобщение к православию. Но большинство современных исследователей констатирует чисто внешнее усвоение догматов христианства коренным населением, сохранение прежних религиозных представлений и, прежде всего, шаманизма. С другой стороны, активное «наступление» на народы юга Сибири вели другие мировые религии– ислам и буддизм. Следствием указанных тенденций становится формирование двоеверия у большинства аборигенов региона. Еще один вариант реализации «национальной идеи» в религиозной оболочке дали в начале ХХ в. алтайцы попыткой создания «новой алтайской веры», более известной как бурханизм.
Курс на приобщение коренных этносов Сибири к западной модели цивилизационного развития приводил к социокультурному расколу внутри формирующихся национальных элит, отстаивающих альтернативные варианты национального самосознания, ориентирующиеся не только на западную цивилизацию в лице России, но и на интеграцию народов Центральной Азии, исповедующих буддизм (панмонголизм) и ислам. Причем адепты этих направлений ведущую роль в политической модернизации традиционных обществ отводили образованию. Один из будущих лидеров Алаш-Орды Х. Досмухаметов в 1904 г. писал другу и единомышленнику Г. Бердееву: «Когда подумаешь, что кроме тебя, десятки или даже сотни киргизов получают высшее образова- ние, то приходишь к заключению, что и этот народ способен к труду, к прогрессу, что и он, может быть, когда-нибудь займет в мировом господстве одно из высоких мест, что и он может сделаться второй Японией, а не вымрет, как другие инородцы под властью белых чертей, которые не имеют ни сил ни мужества бороться и побороть своего душителя, самодержавного Крокодила, как вулкан, который не могши справится с внутренними поземными силами, выливает свою лаву на ни в чем не повинных жителей окрестностей» [Аманжолова, 2005. С. 219]. Тем не менее, даже в период революции 1905–1907 гг. представители национальных элит аборигенных этносов Азиатской России не шли далее выдвижения требований культурно-национальной автономии и лишь на съезде бурят Иркутской губернии (август 1905 г.) большинство делегатов высказалось за создание у аборигенов отдельного уездного земства наряду с русским.
Характерной особенностью политических процессов в 1917 г. в Сибири становится эскалация национального движения. Активность проявили прежде всего экстерриториальные (дисперсно рассеянные в иноязычной среде) меньшинства западного происхождения (евреи, немцы, прибалты, поляки, украинцы), последовательно высказывавшиеся за преобразование России в федеративную демократическую республику с предоставлением культурно-национальной автономии этносам, не имеющим общей территории. Национальные объединения аборигенов, прежде всего бурят, выдвигают требование территориально-национальной автономии. Более того, алтайцы летом 1917 г. добились автономного статуса. На основе решения сессии Томского губернского народного собрания 1–6 июля в Бийске собрался съезд представителей инородческих волостей Алтая «с функциями подрайонного Учредительного собрания», избравший Алтайскую Горную думу во главе с Г. И. Гуркиным и выделивший Горный Алтай в самостоятельный уезд Алтайской губернии. Далее, с подачи видных сибирских эсеров и этнографов М. Б. Шатилова и В. И. Анучина на «инородческом» съезде в Улале (март 1918 г.) было признано целесообразным объединение саяно-алтайских народов (алтайцев, хакасов, монголов, тувинцев) в республику Ойрот.
На Первом сибирском областном съезде (Томск, 8–17 октября 1917 г.) делегаты (националы, областники, эсеры, меньшевики, народные социалисты) приняли постановление под названием «Областное устройство Сибири». Этот документ представлял собой комплекс нормативных положений, определявших статус Сибири в составе Российского государства, основные принципы функционирования автономии, структуру ее органов управления, их компетенцию и порядок формирования. Признавая единство Российской республики, документ требовал для ее частей «автономии национальной или территориальной». При этом подчеркивалось, что законодательно «должны быть обеспечены права национальных меньшинств в местностях со смешанным населением и права наций без территории путем образования экстерриториальных персонально-автономных союзов». Подчеркивалось, что Сибирь имеет все права на автономию, и в пределах полномочий, определенных «центральным парламентом», вся полнота власти в регионе должна принадлежать всенародно избранной Сибирской областной думе. Согласно рассматриваемому документу, Сибирь как автономная территория «имеет право передать часть принадлежащих ей законодательных полномочий отдельным областям и национальностям, занимающих отдельную территорию, если последние этого потребуют, превращаясь таким образом в федерацию, т. е. в союз областей и национальностей». Не забыли делегаты и о щекотливой проблеме границ Сибири, определив их «по водоразделу на восток от Урала, со включением всего Киргизского края, при свободном на то волеизъявлении занимающего эти пределы населения».
Оценивая данное постановление, следует заметить, что оно, как представляется, давало оптимальный вариант федеративного устройства России с четко проработанной системой организации управления на уровне региона (области), разделения функций центральной и местных властей. Нормативный акт сочетал оба подхода к федерализму – национальный и территориальный. Кроме того, он гарантировал сохранение этнической самобытности национальным меньшинствам в районах смешанного проживания и для экстерриториалов. Наконец, в документе закладывалась возможность дальнейшего совершенствования национально-государственных структур внутри региона за счет постепенной трансформации их «в союз областей и национальностей». С этой точки зрения он не потерял актуальности и до настоящего времени.
Государственный переворот 18 ноября 1918 г. в Омске приостановил процесс национального строительства в регионе. Известная исследовательница этих проблем И. В. Нам справедливо замечает по этому поводу: «Колчаковское правительство воспринимало притязания национальных меньшинств как ограничение державного суверенитета. Колчаковские идеологи аргументировали непризнание культурно-национальной автономии тем, что права национальных меньшинств обеспечиваются признанием их гражданских прав. Таким образом, национальным меньшинствам отказывалось в праве на существование в виде коллектива (национального союза). И поэтому самоуправление национальных меньшинств колчаковской властью не приветствовалось. Но и не ликвидировалось» [Нам, 1995. С. 104].
Правительственные круги в течение 1919 г. игнорировали обращения Центрального национального управления тюрко-татар Внутренней России и Сибири об официальном признании его в качестве публично-правового органа культурно-национальной автономии мусульман. Подверглись репрессиям отдельные национальные лидеры. Так, в декабре 1918 г. арестовали Г. И. Гуркина. Эти обстоятельства обусловили отход национальных объединений от прямой поддержки контрреволюции. Их лидеры начинают поиск альтернативных вариантов автономии для своих этносов. Например, в феврале 1919 г. в Чите под патронатом атамана Г. М. Семенова начал работу панмонгольский съезд, принявший решение об образовании независимого федеративного «Велико-Монгольского государства», получившего название «Даурского», со своей армией.
В последующий период, со времени восстановления в Сибири Советской власти, в 1920 – начале 1930-х гг., аборигенные и пришлые этносы региона стали объектом системной, целенаправленной политики государства. Предпринимаются серьезные усилия по модернизации хозяйства коренных народов, повышению их уровня жизни, улучшению бытовых условий. Осуществ- ляются меры по медико-санитарному, культурно-социальному обслуживанию и ликвидации неграмотности. На территориях компактного проживания коренных народов и отдельных диаспор создается сеть национальных сельсоветов, районов, округов, областей и автономных республик. Так, только в составе Якутской АССР образуется 15 национальных районов малочисленных народов Севера. Особое внимание коммунистическое руководство уделяло «коллективному организатору и пропагандисту», т. е. повременным изданиям на языке национальных меньшинств. Только в ЗападноСибирском крае в 1930 г. их выпускалось 10 наименований. В каждом национальнотерриториальном образовании открывались национальные школы, издавались соответствующие комплекты учебников, в Ачинском педагогическом техникуме готовились педагогические кадры специально для поляков, латышей, немцев, эстонцев, латгальцев. Патерналистская политика государства по отношению к аборигенам Арктики осуществлялась через Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК СССР (Комитет Севера) (1924–1935). Этот орган развернул масштабную работу по повышению уровня жизни северных народов, защите их прав в районах начавшегося очагового промышленного освоения. Предпринимались и некоторые, хотя и не очень значительные, шаги по выработке комплексного подхода к развитию Арктики. При этом модернизационные процессы рассматривались прежде всего через призму улучшения условий экономического положения коренного населения.
Если национальные сельсоветы и районы в какой-то степени продолжали практику административного управления инородцами, как особой категории местного населения, то создание национальных автономий (округов, областей, республик) представляло кардинальную инновацию. Как отмечается по этому поводу в недавно вышедшей коллективной монографии, «впервые в истории Сибири “инородцы” стали править “русскими”» [Алексеев и др., 2004. С. 404–405].
Однако с середины 1930-х гг. вполне четко происходит переход от политики поощрения национально-культурного развития отдельных этносов и национальных меньшинств к постепенной их ассимиляции и аккультурации прежде всего на уровне экстерриториальных диаспор. Ликвидируются национальные районы и сельсоветы, при общем росте образовательных учреждений закрываются национальные школы. Прекращается издание национальной периодики и радиовещание. В качестве средства межнационального общения русский язык получает приоритет не только в межэтническом, но и внутриэтническом общении. Проведенное административными методами и без достаточного учета реального уровня и специфики развития аборигенов Сибири переустройство их традиционных хозяйства, быта и культуры вели к постепенной утрате национальной самобытности. С конца 1930-х гг., игнорируя, как и в начале ХХ в., неразрывную связь образа жизни с типом и способом хозяйствования, властные структуры провозгласили кочевой образ жизни пережитком прошлого, а переход на оседлость – обязательным условием развития социалистической культуры, показателем уровня цивилизованности. Начавшееся с конца 1930-х гг. индустриальное освоение региона пагубно отражалась на среде обитания и традиционных видах занятий аборигенов. Форсированное освоение способствовало усилению ассимиляционных процессов в районах создания крупных территориально-производственных комплексов.
С началом Второй мировой войны в регион хлынул поток депортированных поляков, прибалтов, немцев и калмыков. По подсчетам В. В. Сарновой, только в Западной Сибири было размещено на положении ссыльнопоселенцев 38 052 польских граждан, 23 295 латышей, эстонцев и литовцев, около 300 тыс. немцев, 65 052 калмыка. В связи с этим названная исследовательница отмечает: «Депортация и последующая жизнь на поселении оказали сильнейшее воздействие на этническое самосознание переселяемых народов. Депортированные этнические группы фактически были лишены права обучаться на родном языке. Очевидными последствиями такой политики стали как утрата языка и части традиций, так и консервация последних на уровне семьи. Отчетливо появлялась тенденция к русификации части спецпереселенцев, в большей степени ей были подвержены дети, оставшиеся без родителей, и население, не имевшее глубокой привязанности к своим национальным и религиозным традициям» [Сарнова, 2005. С. 18, 19, 21, 22, 32].
В послевоенный период (1945–1985) перечисленные выше тенденции в области национальной политики продолжали последовательно осуществляться. При общем росте численности населения, в том числе аборигенного, происходило неуклонное сокращение его доли (в 1979 г. из 22 млн чел. на долю коренных народов приходилось 1,3 млн чел., или 5,9 %). Увеличивалось значение русского языка, и большинство относительно крупных этносов становятся двуязычными. С другой стороны, неуклонно сокращалось количество русских, владеющих языком своих соседей. По подсчетам В. И. Сверчкова, таковых в регионе в 1979 г. насчитывалось 84 947 чел. [Сверчков, 1993. С. 37]. Хозяйственное освоение вело к своего рода «люмпенизации» ряда этносов. Продолжая традицию миссионеров XVIII–XIX вв., власти искореняли традиционные обряды, фольклор, разрушали святилища.
С началом перестройки отмечаются такие процессы, как возвращение внутриэтни-ческих отношений к родоплеменным, усиление неприязни между титульным и русскоязычным населением, возрождение традиционных конфессий (шаманизм, ислам, буддизм); получают распространение негативные оценки дореволюционного и советского этапов истории; обнаруживается стремление народов южной Сибири войти в единое тюркское пространство во главе с Турцией. В этих условиях коммунистическое, а затем демократическое руководство страны не смогло предложить конструктивной программы по национальному вопросу кроме призывов к последовательной реализации права наций на самоопределение. Политико-правовое решение проблемы выразилось в предоставлении всем национально-территориальным образованиям (округ, область, автономная республика) прав субъектов РФ и в декларативном объявлении концепции культурно-национальной автономии основой национальной политики государства. Фактически власть устранилась от решения национальных проблем, а чиновники на местах, возглавив разного рода национальные объединения и движения, использовали их для давления на «центр» с целью получения дотаций и преференций.
Таким образом, осуществленный мной обзор показывает, что в рамках поиска оптимальной модели модернизации российского общества политическая власть в XVII–XX вв. активно использовала административный ресурс для регулирования этносоциальных вопросов, в том числе и в Сибири. При этом отечественный вариант перехода к индустриальному обществу под патронатом государства осуществлялся в условиях приоритетного решения военностратегических и экономических вопросов. Социальные, в том числе национальные аспекты рассматривались как второстепенные, а их разрешение считалось возможным в ускоренном режиме при нередком игнорировании инерционности этносоциальных и психоментальных процессов. Во многом ситуация, в которой оказалась Россия в изучаемой области, объясняется отсутствием у нас до сих пор гражданского общества. Не сформировался социальный слой, профессионально ответственный за инновации, корпорация людей интеллектуального труда. Сегодня это чувствуется особенно болезненно.
ETHNIC AND SOCIAL PROCESSES AT SIBERIA:
REFORMS IN THE CONTEXT ON THE RUSSIAN IDENTITY FORMING AT THE XVII–XXth