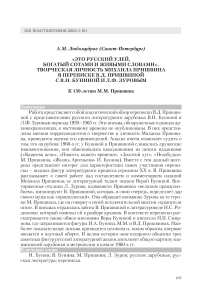"Это русский улей, богатый сотами и живыми словами". Творческая личность Михаила Пришвина в переписке B.Д. Пришвиной с В.Н. Буниной и Л.Ф. Зуровым
Автор: Любомудров Алексей Маркович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа представляет собой аналитический обзор переписки В.Д. Пришвиной с представителями русского литературного зарубежья В.Н. Буниной и Л.Ф. Зуровым периода 1959-1965 гг. Эти письма, обнаруженные в разных архивохранилищах, к настоящему времени не опубликованы. В них представлены мнения корреспондентов о творчестве и личности Михаила Пришвина, приводятся оценки его произведений. Анализ писем позволяет судить о том, что на рубеже 1960-х гг. у Буниной и Пришвиной сложились дружеские взаимоотношения, они обменивались выходившими из печати изданиями («Кащеева цепь», «Повесть нашего времени», «Золотой луг», «Незабудки» М. Пришвина, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина). Вместе с тем данный материал представляет интерес для характеристики самих участников переписки - видных фигур литературного процесса середины ХХ в. В. Пришвина рассказывает о своей работе над составлением и комментарием изданий Михаила Пришвина; ее литературный талант оценен Верой Буниной. Восторженные отклики Л. Зурова, назвавшего Пришвина «великим правдолюбцем», импонируют В. Пришвиной, которая, в свою очередь, определяет дар своего мужа как «провидческий». Она обращает внимание Зурова на те строки М. Пришвина, где он говорит о своей исключительной миссии «хранителя огня». В письмах отразилась забота В. Пришвиной о литературоведе Н.С. Родионове, который помогал ей в разборе архивов. В контексте переписки рассматривается также обмен мнениями Веры Буниной и писателя Н.П. Смирнова, где затрагиваются фигуры И.А. Бунина, М.М. и В.Д. Пришвиных. Наиболее показательные письма приводятся целиком и, таким образом, впервые вводятся в научный оборот. В целом история эпистолярного общения трех заметных фигур русской литературной жизни дополняет общую картину взаимосвязей зарубежья и метрополии в начале 1960-х гг.
И. бунин, в. бунина, м. пришвин, л. зуров, русское зарубежье, русская литература, переписка
Короткий адрес: https://sciup.org/149142758
IDR: 149142758 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-101
Текст научной статьи "Это русский улей, богатый сотами и живыми словами". Творческая личность Михаила Пришвина в переписке B.Д. Пришвиной с В.Н. Буниной и Л.Ф. Зуровым
I. Bunin; V. Bunina; M. Prishvin; L. Zurov; Russian emigration; Russian literature; correspondence.
Сравнительное изучение М.М. Пришвина и И.А. Бунина – благодатное поле для историков литературы. Сближают двух писателей не только начальные этапы биографии (оба родились и выросли в одном крае, учились в одной гимназии), но и художественные параллели: тяготение к лирико-философской прозе, внимание к природе, создание близких по тематике автобиографических романов. Увидели свет работы, посвященные творчеству Бунина и Пришвина в контексте христианской культуры [Климова 1993], образам бытия, человека и мира [Шемякина 2004, Шемякина 2005], революции и народа [Апанович 2001] и др. Автор литературного этюда «Пришвин и Бунин» А.Н. Варламов приходит к выводу: «Тут слишком многое сплелось: и общественное, и личное, и сокровенно творческое, это своеобразная, если угодно, трель двух соловьев, их поединок <…>. Но самое главное, что после чудовищной катастрофы семнадцатого года, устояв на ногах, оба писателя стремились к одному и тому же – к оправданию и утверждению ненапрасности бытия, выражению благодарности жизни…» [Варламов 2001, 36].
Личные отношения двух писателей не сложились, неизвестно доподлинно, встречались ли они когда-либо. В записях И.А. Бунина нет развернутых суждений о своем земляке. Пришвин же внимательно следил за творчеством Бунина на протяжении всего жизненного пути [Борисова 2018, 13]. В дневнике он часто сравнивал его творчество с своим собственным, при этом оценки его были неоднозначны и в известной степени ревнивы: «Читаю Бунина и узнаю в тонком письме его тот же самый порок, которым и сам страдал некоторое время: этот порок состоит в особом эстетизме, похожем на любовь… <…> Письмо Бунина изящное, но несвободное» [Пришвин 2012, 562]; «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его как самого близкого мне из всех русских писателей. <…> Бунин культурнее, но Пришвин (автор пишет о себе в третьем лице. – А.Л.) самостоятельней и смелее. Оба очень русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов» [Пришвин 2012, 565]. В нобелевском лауреате он видел равного себе соперника: «Взять Бунина – вот жаворонок! и насколько он пишет лучше меня! <…> Да ведь и я даже, когда взлетаю, становлюсь крепче Бунина. Вот почему неплохо тоже держаться ближнего в человеческой правде: трудно подняться к истине, но если поднимешься, то летишь не жаворонком, а птицей орлиной» [Пришвин 2012, 606].
Соприкосновение двух художественных миров произошло после кончины писателей – в лице их «вторых половинок», Веры Николаевны Муромцевой-Буниной (1881–1961) и Валерии Дмитриевны Пришвиной (1899–1979). Этих женщин, овдовевших почти одновременно (в конце 1953 г. и начале 1954 г. соответственно), объединяет жертвенная любовь к своим спутникам-литераторам, преклонение перед их талантом, помощь в трудах при жизни и всемерные усилия по сохранению и публикации их наследия. Забота о памяти была неустанной, деятельной и самоотверженной – явление характерное для вдов, ставших распорядителями архивов своих именитых супругов. И Бунина, и Пришвина обладали литературным даром, обе писали мемуарно-биографические книги: «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью» В. Буниной; «Наш дом», «Круг жизни», «Путь к слову», «Мы с тобой. Дневники любви» В. Пришвиной. Вера Николаевна разбирала архив Бунина, консультировала издателей его произведений в Советской России; Валерия Дмитриевна была составителем, автором вступительных статей и комментариев к нескольким книгам Пришвина. Обе были причастны к подготовке собраний сочинений, вышедших – еще одно совпадение – одновременно, в 1956 г.: шеститомник Пришвина и пятитомник Бунина. Наконец, в разборе и систематизации архивов у обеих были заботливые помощники – Л.Ф. Зуров у Буниной и Н.С. Родионов у Пришвиной.
В то же время характеры их были различны: Пришвина отличалась жесткостью и практичностью, была женщиной, «умело сочетающей мистику с бизнесом, снимающей с каждой цитаты урожай сам двенадцать», как писала редактор ее книг Т.Ю. Хмельницкая, отдавая, впрочем, должное «ее энергии, работоспособности, объему ее свершений» [Письма… 2018, 163, 191]. В отличие от Пришвиной, Вере Буниной не нужно было доказывать масштаб таланта своего супруга. Современники отмечали скромность, благородство, незаурядный ум Веры Николаевны, ее стремление помочь людям в трудной ситуации.
На протяжении нескольких лет Пришвина и Бунина вели переписку, к которой присоединился и Л. Зуров. Она интересна не только как своего рода зеркало, отражающее личности двух знаменитых прозаиков, но характеризует и самих корреспондентов, внесших известный вклад в историю русской литературы. Инициатива в эпистолярном общении принадлежала Валерии Дмитриевне. В марте 1959 г. она прислала В. Буниной роман «Кащеева цепь» и затем отправляла ей и Зурову другие выходившие из печати книги Пришвина, иногда в нескольких экземплярах, с просьбой «передать кому-либо, кто серьезно изучает нашу литературу и кому Пришвин может быть близок» [РАЛ. MS. 1067/5999]. Интересуясь мнением своих корреспондентов и других читателей, она просила присылать ей наиболее важные материалы о Пришвине, печатавшиеся в зарубежной периодике.
Переписка началась в период, когда В. Бунина была уже серьезно больна. Валерия Дмитриевна проявляет деликатность, просит не напрягать зрение, ограничиться чтением нескольких глав: «Вы сразу окунетесь в атмосферу духовного мира Пришвина и поймете, почему я решилась Вас затруднить этой моей посылкой» [письмо от 2 марта 1959 г. РАЛ. MS. 1067/5997]. В начале переписки В. Пришвина напомнила о родственности двух литераторов: «М.М. Пришвин – тоже ельчанин и в его романе идет постоянная перекличка с Буниным в пейзаже, бытовых зарисовках и т.д.» [РАЛ. MS. 1067/5997]. В. Бунина благодарит, заверяет, что Иван Алексеевич высоко ценил творчество Пришвина, и что сама она читает его с удовольствием: «Писатель он на редкость оригинальный. В книге так много всего близкого и талантливого, что я давно не читала. Я больше всего тоскую по русской природе, а тут точно сама побывала в наших местах» [письмо от 21 апреля 1959 г. Музей М.М. Пришвина]. Она предложила прислать какую-либо книгу Бунина – из тех, что может достать: «Жизнь Арсеньева», «Весна в Иудее», «Митина любовь», «Петлистые уши», «О Чехове». В. Пришвина выбрала «Жизнь Арсеньева» и, в свою очередь, выслала пришвинскую «Повесть нашего времени». Бунина комментирует: «Книги Михаила Михайловича доставили мне и радость, – побывала в своих местах, – и вызвали большой интерес к его творчеству. Он редко оригинальный писатель, поэт, художник, что не так часто встречается. У него есть его тема и только его. А его “Повесть нашего времени” дала мне многое о том, чего я не знала о Вашей жизни во время войны», и далее, рассказывая о своих прогулках по Булонскому лесу, признается: «Завидую Вам, что у Вас есть “подмосковное”, ни о чем не тоскую я так, как о нашей природе» [письмо от 6 июня 1959 г. Музей М.М. Пришвина].
В нескольких письмах упомянут Николай Сергеевич Родионов (1889– 1960), известный литературовед, помощник В.Д. Пришвиной в работе над архивом Михаила Михайловича. Он и сам переписывался с Верой Николаевной (его первая жена, О.С. Шаврина, была двоюродной сестрой В. Муромцевой-Буниной). Оба его сына, рожденные во втором браке, погибли в войну, а в 1952 г. скончалась и жена, Н.У. Авранек. В. Пришвина сообщает: «Бедный Николай Сергеевич сейчас у меня на даче под Москвой, а я на эти несколько предпраздничных дней приехала в город. Он очень болеет и мы, его друзья, по мере сил стараемся скрасить его одинокую старость: он все не успокоится после потери на войне своих сыновей и по ночам во сне часто их зовет и плачет. Но о болезни его ему писать не надо (да и меня не упоминайте: он очень мнителен, а письма Ваши, конечно, мы взаимно показываем друг другу)» [письмо от 1 мая 1959 г. РАЛ. MS. 1067/5998].
Имя М. Пришвина возникает в это же время и в переписке В. Буниной с Н.П. Смирновым. Автор статей и монографии о Пришвине, Николай Павлович Смирнов интересовался оценками Бунина, и 4 апреля 1959 г. Вера Николаевна ответила ему: «Ни я, ни Зуров никогда не слыхали от Ивана Алексеевича дурного отзыва о Пришвине <…> И как Пришвину не подходит быть в “лагере Мережковских”. Ремизова Иван Алексеевич не любил. Но Пришвин – ведь органический талант» [Бунина 1969, 216]. В письме от 13 мая 1959 г. Бунина делится со Смирновым своими впечатлениями: «Последнее время я много времени проводила с Пришвиным, наслаждалась природой, той, которой мне здесь не достает. <…> Прочла дневник Пришвина. Они с Буниным разные люди. Первый объясняет свое творчество, второй никогда, разве только немного приоткрывает его в “Жизни Арсеньева” и то художественно, а не лично» [Бунина 1969, 217]. Спустя год в переписке Буниной и Смирнова появляется и имя Пришвиной. «Очень интересно все, что Вы пишете о Валерии Дмитриевне», – замечает Вера Бунина в письме к Смирнову от 2 апреля 1960 г. [Бунина 1969, 225]. Контекст остался неизвестным, поскольку дальнейшие строки изъяты Смирновым при публикации. О неоднозначном отношении Н.П. Смирнова к личности М.М. Пришвина и о его весьма нелестных оценках В.Д. Пришвиной известно из публикации О.К. Переверзева [Переверзев 2003]. Во всяком случае, на дружеский тон переписки Буниной и Пришвиной его информация никак не повлияла.
Через три месяца В. Буниной не стало. Эстафету в эпистолярном общении подхватил Леонид Зуров. В эти годы он вел обширную переписку со многими корреспондентами из Советской России, среди которых писатели (Н.П. Смирнов, Л.И. Раковский), ученые-археологи, литературоведы, музейный работники. Общение с В. Пришвиной также доставляло ему радость. В 1961 г. Валерия Дмитриевна прислала Зурову несколько фотографий с видами Дунино, где находился пришвинский дом, с дарственными и поздравительными надписями. Леонид Федорович прокомментировал снимки: «В чудесных местах вы живете. С наслаждением смотрел на деревенский дом, высокую траву. Радовался, что Вы живете далеко от столицы, дышите чистым воздухом, работаете в тиши» [письмо от 17 апреля 1962 г. Музей М.М. Пришвина].
В. Пришвина была одним из составителей 6-томного собрания сочинений своего супруга и автором комментариев к 5 и 6 томам. В июне 1962 г. она прислала Зурову весь шеститомник, тот отозвался восторженно: «Спасибо за добрый и сердечный привет. Леса, поля и люди моей родины! Они живут и дышат в книгах Михаила Михайловича. Он был не только поэтом, но и великим правдолюбцем. В его книгах оживает древний запев. Это русский улей, богатый сотами и живыми словами. Какой взяток! Какое добро! Сколько солнца и радости. С большим вниманием читаю ваши примечания». Книги Пришвина воскрешают в памяти Зурова хорошо знакомые ему картины русской природы: «Вспоминает сердце далекие озера, леса, речку Белку, древние края. Помню, как на русской земле цвели старые липы. И пчелы несли мед с псковских лугов. Тем медом меня угощали крестьяне. А аисты тогда летали к озерам. Какое было счастье!» [письмо от 27 июня 1962 г. Музей М.М. Пришвина].
Зуров быстро сближался со своими корреспондентами, общался с ними с открытой душой. К Валерии Дмитриевне он относился с глубоким почтением, заканчивая письма фразой «целую Вашу руку». Он шлет красочные открытки, трогательные подарки – вкладывает в конверт васильки. Зная, насколько важным для нее является все, что связано с именем мужа, 3 августа 1962 г.
Зуров выслал оттиск из «Нового журнала» с воспоминаниями о Пришвине ученого-зоолога К.Н. Давыдова [Давыдов 1962] (отредактированный вариант этих воспоминаний см. также в кн.: [Воспоминания… 1991, 37–46]).
В ответ Пришвина прислала письмо, которое приводим полностью:
Дорогой Леонид Федорович!
Я получила и Ваше письмо, и открытку из Парижа, и письмо с васильками из Эдинбурга. Очень, очень благодарю за выписку о Михаиле Михайловиче. Я ведь не знаю, как его читают, как понимают за границей. Волнует это меня и тревожит. Он был глубоким провидцем, как в личном, так и в историческом плане и даже в космологическом. (Его «природа»!). Но по многим причинам он еще не услышан своими современниками, не прочтен. Его идеи, часто облеченные в форму парадокса (но ведь антиномия и есть самая богатая из доступных нам логических форм, в которые мы пытаемся облечь постигаемое, и в некоторые историч<еские> эпохи – единственно возможная), всегда – в лаконичные и отточенные образы; как толчок в душу поднимают и будят. Многие его афоризмы могут быть темой философского труда или общественно-исторической монографии. Но суть его – еще не уловлена. И я не имею сил и средств ее выразить.
Впрочем, откройте хотя бы 6-й том с<обрания> с<очинений> на стр. 361 («Вокруг меня идут люди…»). Это – первый попавшийся мне пример. Но и эти шесть томов далеко не исчерпывают Пришвина, самого главного.
Простите, я увлеклась пристрастно и неубедительно. Очень прошу Вас, если найдете возможным, сообщать мне о публикациях по адресу М.М. Пришвина, об их основном смысле. Вы сделаете для меня великое одолжение, не затрудняя себя ни в коем случае длинными письмами, а с присущим Вам тактом и лаконизмом.
Жму руку, дружески, сердечно!
Ваша
В. Пришвина.
Не пришлете ли Вы мне что-либо из своих произведений? Очень бы меня порадовали [письмо от 28 августа 1962 г. ДРЗ. Ф. 3. Оп. 1. К. 2. Ед. хр. 97. Л. 2].
Это письмо-панегирик, с определением писателя как «провидца», ложится в русло литературно-критической деятельности В. Пришвиной, которая постоянно стремилась подчеркнуть величие таланта своего мужа. Ей, безусловно, импонировали восторженные оценки Зурова («великий правдолюбец», «русский улей»). Она говорит не просто о художественном, но духовном мире Пришвина, акцентирует внимание на философском содержании его книг. Упомянутая в письме строка из шестого тома – начало дневниковой записи Пришвина 1951 г., полностью фраза звучит так: «15 февраля. Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет и надо будет зажечь на земле новый огонь. Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время» [Пришвин 1957, 361]. Действительно, была права В. Бунина, деликатно, но проницательно заметившая, что Пришвин, в отличие от Ивана Алексеевича, сам «объясняет свое творчество»: в этих строках очевидно просвечивает убеждение писателя в своей исключительности, в своей миссии «хранителя огня», своего рода нового Прометея.
В открытке от 16 ноября 1963 г. обнаруживаем строки, из которых видно, что Валерия Дмитриевна и себя причисляла к «сеятелям»:
Дорогой Леонид Федорович,
Примите мою постоянную память.
Ежевечерне, бродя одна по дорожкам сада, я перебираю в памяти имена близких людей, хотя может быть их глазами никогда не видала. Так 11 ноября я неожиданно поняла, что родилась на этот свет в один день с Ф.М. Достоевским. Какая честь! Живу очень строго; много работаю без надежды, что это кому-нибудь пригодится. Впрочем, так бывает в природе: один сеет, другой жнет.
Ваша В. П. [ДРЗ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 97. Л. 4].
В январе 1964 г. Пришвина выслала Зурову только что вышедшую книгу «Золотой луг» с собственным предисловием. Откликаясь на нее, Зуров вновь демонстрирует открытость и доверчивость, в его строчках проступает почти детская восторженность:
Вашу открытку и «Золотой Луг» (с милой надписью. Спасибо сердечное!) я получил. Воспоминания Ваши прочел несколько раз. До чего хорошо, просто и очаровательно! Вы написали не только замечательный портрет Михаила Михайловича, но Вы раскрыли и его внутренний мир. Образ Михаила Михайловича – ясен, его внутренний мир светоносен, как светоносна и русская природа, которую он так любил. Вместе с ним все видишь, чувствуешь и творчески переживаешь. Все озарено. Все в радужной простоте.
С какой любовью Вы писали! Читая Ваши воспоминания, я вспомнил картины Нестерова, записные книжки Леонардо да Винчи (на его могиле я побывал), волхвов обозерских (так рыбаки называли своих знахарей), которых я встречал на берегах Псковского и Чудского озер. Вспомнил и крик журавлей в Завиденских мхах. А трубили они перед грозою. Славили заходящее солнце. И было это перед войной. Под древним Изборском.
От всей души желаю Вам, дорогая Валерия Дмитриевна, здоровья и плодотворной работы.
Сердечно благодарю за подарок.
Целую Вашу руку, шлю привет Вашим друзьям [письмо от 25 марта 1964 г. Музей М.М. Пришвина].
Отметим, что и сам Зуров обладал несомненным талантом в изображении родной природы, более того, в его романах можно обнаружить цельную авторскую натурфилософию. Сопоставительный анализ философии природы у Пришвина и Зурова может стать перспективным предметом литературоведческого исследования.
В дальнейшем Зуров и Пришвина обменивались лишь краткими поздравительными открытками. Последняя из них представляет собой известную фотографию 1947 г., где запечатлены Михаил Пришвин и Валерия Дмитриевна за письменным столом, на обороте надпись:
Такова история письменного общения трех заметных фигур русской литературной жизни, дополняющая общую картину взаимосвязей зарубежья и метрополии в начале 1960-х гг.
Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Музея М.М. Пришвина Яне Зиновьевне Гришиной и Лилии Александровне Рязановой, а также куратору Русского архива Ричарду Дэвису за помощь в получении эпистолярных материалов.
Список литературы "Это русский улей, богатый сотами и живыми словами". Творческая личность Михаила Пришвина в переписке B.Д. Пришвиной с В.Н. Буниной и Л.Ф. Зуровым
- Апанович Ф. Эволюция вспять: (от человека к обезьяне): образы революции и народа в творчестве И. Бунина и М. Пришвина первых десятилетий XX в. // Alma mater (Вестник высшей школы). 2001. № 1. С. 33-37.
- Борисова Н.В. М. Пришвин о творчестве И. Бунина: «...Понял его как самого близкого мне из русских писателей» // Филоlogos. 2018. Вып. 39(4). С. 13-17.
- Варламов А.Н. Пришвин и Бунин. Литературный этюд // Вопросы литературы. 2001. № 2. С. 21-38
- Воспоминания о Михаиле Пришвине: Сборник / Сост. Я.З. Гришина, Л.А. Рязанова. М.: Советский писатель, 1991. 366 с.
- Давыдов К.Н. М.М. Пришвин // Новый журнал. 1962. Кн. 68. С. 145-154.
- КлимоваГ.П. Творчество И.А. Бунина и М.М. Пришвина в контексте христианской культуры: дис. ... д. филол. н: 10.01.02. М., 1993. 412 с.
- Переверзев О.К. М.М. и В.Д. Пришвины в дневниках и переписке Н.П. Смирнова // Шестое чувство / Сост. Н.В. Дзуцева. Иваново: Издательство «Иваново», 2003. С. 204-222.
- Письма Т.Ю. Хмельницкой к И.И. Подольской // Звезда. 2018. № 1. C. 159202.
- Письма В.Н. Буниной к Н.П. Смирнову. 1958-1961 / Публ. и предисл. Н.П. Смирнова // Новый мир. 1969. № 3. С. 209-230.
- Пришвин М.М. Дневники. 1942-1943 / Подгот. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселевой, Л.А. Рязановой, статья, коммент. Я.З. Гришиной. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 813 с.
- Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6: Повесть нашего времени; Осударева дорога; Из дневников последних лет / Под ред. Н.И. Замошкина и др.; подготовка текста Н.С. Родионова; примеч. В.Д. Пришвиной. М.: ГИХЛ, 1957. 867 с.
- Пришвина В Д. Вступление // Пришвин М.М. Незабудки: [Отрывки из дневниковых записей 1914-1954 гг.] / Сост. и вступ. статья В.Д. Пришвиной. Вологда: Кн. изд-во, 1960. С. 3-23.
- Шемякина М.К. Бытие русского человека в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина // Творческое наследие И.А. Бунина: Традиции и новаторство. Орел: ПФ «Картуш», 2005. С. 131-135.
- Шемякина М.К. Человек и мир в дневниках И.А. Бунина и М.М. Пришвина: дис. ... к. филол. наук: 10.01.01. Белгород, 2004. 236 с.