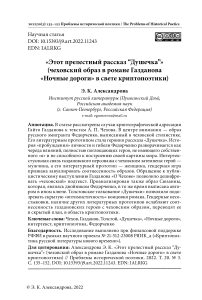"Этот прелестный рассказ “Душечка”" (чеховский образ в романе Газданова "Ночные дороги" в свете криптопоэтики)
Автор: Александрова Эльмира Камильевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены случаи криптографической адресации Гайто Газданова к текстам А. П. Чехова. В центре внимания - образ русского эмигранта Федорченко, выписанный в чеховской стилистике. Его литературным прототипом стала героиня рассказа «Душечка». История «пробуждения» личности и гибели Федорченко разворачивается как череда влияний, полностью поглощающих героя, не имеющего собственного «я» и не способного к построению своей картины мира. Интертекстуальная связь газдановского персонажа с чеховским затемнена: герой - мужчина, а его литературный прототип - женщина, гендерная игра призвана завуалировать соотнесенность образов. Обращение к публицистическому выступлению Газданова «О Чехове» позволило дешифровать «чеховский» подтекст. Проанализирован также образ Сюзанны, которая, являясь двойником Федорченко, в то же время выписана автором в ином ключе. Толстовское толкование «Душечки» позволило подозревать скрытую «оптимистичность» концовки романа. Гендерные несостыковки, наличие других литературных прототипов ослабляют соотнесенность газдановских героев с чеховским образом, переводят ее в скрытый план, в область криптопоэтики.
Чехов, газданов, толстой, душечка, ночные дороги, интертекст, криптопоэтика, федорченко
Короткий адрес: https://sciup.org/147238868
IDR: 147238868 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11243
Текст научной статьи "Этот прелестный рассказ “Душечка”" (чеховский образ в романе Газданова "Ночные дороги" в свете криптопоэтики)
Ч ехов входил в орбиту особенно пристального внимания
Г. Газданова1. В его произведениях встречаются не только отдельные реминисценции, но и воспроизводятся сюжетные перипетии, диалоги и герои Чехова. Так, образ квартирной хозяйки Леночки из романа Газданова «Ночные дороги», в определенной степени восходящий к Эмме Бовари, по отношению к чеховской попрыгунье Ольге Ивановне выписан в криптопародийном ключе [Александрова, 2010]. В рассказе «Бистро», наряду с прозрачным гоголевским интертекстом («Шинель»), нами прослежена адресация к «Человеку в футляре», важная чеховская деталь «звук лопнувшей струны» и ее трансформация рассмотрена как «стертый адрес паро-дии»2 [Александрова, 2021].
Одним из произведений, значимых для писателя-эмигранта и многогранно отразившихся в его творчестве, является рассказ «Душечка». Множественность интерпретаций образа главной героини (обозначившаяся уже в спорах современников [Мелкова] и до сих пор отзывающаяся в литературоведческих работах3) — еще один аспект актуальности рассказа для обозначенной темы. Оленька Племянникова представляет собой «тип русской женщины с очень пластичной натурой, способной быстро приспосабливаться к обстоятельствам» [Родионова: 169]. С каждым мужчиной меняется внутренний мир героини: «театральный» образ мыслей антрепренера Кукина уступает место купеческому лесоторговца Пустовалова, затем «ветеринарному» Смирнина, и наконец, детскому Сашенькиному; «душа Оленьки — идеально пустая форма для любого содержания» [Назиров: 157].
В романе «Ночные дороги» герой, отмеченный чертами чеховской душечки, — один из главных персонажей романа, русский эмигрант Федорченко4. История «пробуждения» его личности и гибели разворачивается как череда влияний, полностью поглощающих героя, не имеющего собственного я и не способного к построению своей картины мира. Федорченко, последовательно на протяжении романа впадающий в различные страсти, отдающийся им с удивительной самоотверженностью, предстает человеком со счастливой способностью приспосабливаться к любой среде, в которой оказался, впитывать в себя те идеи, которые предлагает момент. В самом начале это идеальный рабочий, «изменивший» не только социальную, но и национальную принадлежность:
«За границей в фабричных условиях он был как рыба в воде и совершенно не страдал от них, для него скорее университет был бы трагедией. С рабочими он легче дружил и сходился, чем другие, хотя почти не говорил по-французски. Работал он хорошо, был вынослив, и то, что он делал на фабрике, его живо интересовало. <…> В нем было все, что необходимо для счастливой жизни, и прежде всего инстинктивная и полная приспособляемость к тем условиям, в которых ему пришлось жить»5.
Трансформации герой подверг даже собственное имя: «Фамилия его была Федорченко, и это его очень огорчало, так как, по его словам, французам было трудно ее произносить, и всем своим новым знакомым он представлялся как m-r Федор» ( Газданов , т. 2: 35), — и в этом опрощении тревожный намек на отказ от собственного я .
Встреча и отношения с проституткой Сюзанной (которые герой, не умея выразить внутренние переживания, описывает высокопарными фразами бульварных романов) провоцируют неожиданные для героя-рассказчика метаморфозы в Федорченко:
«…было несомненно, что страсть охватила его сильнее, чем можно было думать. Я считал его неспособным на это» ( Газда-нов , т. 2: 69).
В пору расцвета этого романа подмечена необычная деталь: из кафе Федорченко «ушел особенно легкой, несвойственной ему походкой, сделав мне в воздухе несколько порхающих движений рукой, что тоже совершенно не вязалось с обычной тяжеловатой, крестьянской медлительностью. Он вышел из кафе так, как он никогда не выходил — походкой балетного танцора, с оперной и неестественной легкостью, на которую я не мог не обратить внимания» ( Газданов , т. 2: 71). Внутреннее состояние, выраженное языком тела, можно расценить как отголосок «театрального» образа мысли, установившегося в семье Оленьки после встречи с Кукиным.
После свадьбы и открытия красильной мастерской Федорченко перевоплощается в талантливого дельца:
«Он говорил теперь о дороговизне материалов, о стоимости краски, о трудностях работы, о том, что он, в качестве коммерсанта этого квартала, должен поддерживать известные цены. <…> С той же удивительной приспособляемостью, которая была в нем, <…> он вошел в свою новую роль…» ( Газданов , т. 2: 93).
Деловитость, которую проявляет Федорченко в организации семейного предприятия, можно расценить как отсылку к образу мыслей Оленьки, воцарившемуся после свадьбы с лесоторговцем Пустоваловым.
Отправной точкой непоправимых изменений, повлекших за собой гибель героя, стало влияние Васильева:
«Это была, во всяком случае, внешняя причина неожиданного пробуждения в нем какого-то совершенно ему до сих пор не свойственного интереса к отвлеченным вещам. <…> …в нем вдруг возникли сомнения в правильности того бессознательного представления о мире, в котором он жил до сих пор. <…> Но по мере того, как выяснялась полная невозможность для него найти ответ на эти сомнения, необходимость этого ответа становилась все повелительнее» ( Газданов , т. 2: 99).
После смерти Васильева идеи Ницше, проповедовавшиеся сумасшедшим соотечественником, захватили все существо Федорченко:
«Я поразился тому, как он похудел; лицо его приобрело постоянно тревожное и напряженное выражение. Глаза у него блестели, и я не знал, следовало ли это объяснить действием алкоголя или другой, более серьезной причиной. <…> Он поднял на меня свои тревожные глаза — и мне показалось на секунду, что на меня смотрит какой-то другой человек, которого я никогда не знал и который не имел ничего общего с Федорченко. <…> Он опять посмотрел на меня, и мне снова показалось, что я встречаю взгляд каких-то человеческих глаз, которых я до этой ночи не видел» (Газданов, т. 2: 197–200).
Претерпевая изменения и при этом «пробуждаясь», герой не перестает быть зависимым от чужих влияний. В «Ночных дорогах» не идет речь о становлении самостоятельной личности: очнувшись от обывательского существования, Федорченко «не был способен ни к какому компромиссу или построению иллюзорной и утешительной теории, которая позволила бы ему считать, что ответ найден, он не мог ее создать» ( Газданов , т. 2: 99–100). Он ищет поддержки у других, адресуясь со своими вопросами то к Сюзанне, то к герою-рассказчику, проявляя готовность попасть под новое «влияние». Таковым, наконец, оказывается «сожаление» ресторанной певицы Кати Орловой:
«…каждый раз, через ночь он погружался в этот минорный, звуковой туман и начинал невольно переживать потерю всех тех вещей, о которых пела Катя и которых у него никогда не было, так как он никогда не знал ни этих троек на снегу, ни аллей старого сада, ни потерянной любви, ничего из всего этого печального и вздорного мира» ( Газданов , т. 2: 204).
Зависимость от чужих мнений и влияний не единственная черта, сближающая Федорченко с Оленькой. Природное здоровье (и полнота как признак этого здоровья) чеховской героини («очень здоровая», «на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой», «ее шею и полные здоровые плечи», «Оленька полнела», «полная женщина»6) отозвалась и в фигуре Федорченко:
«…чувствовал себя нехорошо, — что казалось особенно удивительным при его несокрушимом здоровье», «человек, отличавшийся несокрушимым крестьянским здоровьем и не имевший понятия ни о недомоганиях, ни о хотя бы секундной потере сознания» ( Газданов , т. 2: 69, 205).
При этом физическое здоровье Оленьки напрямую зависит от ее психического состояния (когда она теряет предмет своего обожания, в душе образовывается пустота, и это отражается на ее внешности). М. С. Свифт выносит Душечке медицинский диагноз, опираясь на имевшийся в библиотеке Чехова (и отмеченный в критике в связи с душевной жизнью других чеховских героев) труд С. С. Корсакова «Курс психиатрии» (1893). Исследователь подробно прослеживает в образе героини симптомы психопатии [Свифт]. Газдановский герой-рассказчик сравнивает перемену, произошедшую с Федорченко, его духовное «пробуждение» с болезнью: «Мне казалось, <…> что я вижу тщетную борьбу организма с быстро распространяющейся болезнью, которой он не в силах одолеть», «стремительного и очень широкого душевного недуга», «признаки душевной агонии, <…> такие же признаки агонии, как ослабевающая деятельность сердца или резкое понижение температуры» ( Газданов , т. 2: 201, 204, 116), — здесь физиологический план хотя и не исключен, но может быть рассмотрен как вторичный по отношению к психологическому, если учитывать собственное признание Федорченко, который характеризует свое состояние «как опухоль в душе» ( Газданов , т. 2: 99); неоднократно другими он характеризуется как сумасшедший.
Интертекстуальная связь газдановского персонажа с чеховским все же затемнена и проступает не явно: герой — мужчина, его литературный прототип — женщина, гендерное несогласование призвано завуалировать соотнесенность образов, в этой «перемене пола» можно видеть прием криптопоэтики. Если иметь в виду, что «криптопоэтика связана с различного рода “загадками”, кажущимися сюжетными недоразумениями, странностями, неувязками, а главное — внешней немотиви-рованностью тех или иных эпизодов, деталей, слов героев, которые обретают мотивировку при обращении к интертексту» [Кубасов: 210], то ниже приведенные примеры «случайных»
несостыковок, не связанных с актуальной ситуацией, являются сигналами криптографического письма. Неоднократно при упоминании Федорченко как будто включается игра в гендерную подмену. Так, эпизод с неудавшимся похищением монпарнасского кота7 предваряет неожиданное сравнение: Федорченко «был одет по-праздничному, на голове его был котелок, но вид у него был растерянный. Увидя меня, он <…> не удержался и спросил, как я нахожу его костюм и пальто. — Очень хорошо, — сказал я, — прекрасно. Только галстук не надо завязывать таким маленьким узелком, это так бабушки в России носовые платки завязывают, чтобы не забыть…» ( Газданов , т. 2: 40–41). Передавая диалог с Федорченко, который говорил, «путая русские слова с французскими, о том, как ему трудно жить в этом мире, dans cette monde; он до конца не научился отличать во французском языке мужской род от женского» ( Газданов , т. 2: 97), — герой-рассказчик акцентирует внимание на французском «dans cette monde» («в этом мире») с местоимением, поставленным в женский род вместо мужского. Гендерная несостыковка и чуть ниже в том же эпизоде:
«На его лице было задумчивое выражение, чрезвычайно для него неестественное, настолько неожиданное и нелепое, что оно мне показалось столь же необыкновенным, как если бы я вдруг увидел усы на физиономии женщины. Но это было лишено даже самой отдаленной комичности, было совсем не смешно, и мне стало не по себе» ( Газданов , т. 2: 98).
Прием ранее был отмечен в романе «Полет», где Федор Слетов, друг мужа Ольги Александровны, представляет собой «мужской вариант» чеховской «душечки» [Кибальник: 384]. В этом С. А. Кибальник видит наследование Газдановым особенной писательской техники Чехова, обозначенной В. Б. Катаевым как «транссексуальные операции с жизненными прототипами», превращение «мужчин в женские персонажи и наоборот» [Катаев, 2010: 15], см. также: [Катаев, 2004].
Интересные параллели проступают при сравнении художественного произведения с поздним публицистическим выступлением автора «Ночных дорог»: герой-рассказчик в диалогах с Федорченко выступает как сам Чехов в интерпретации Газ-данова. Таким образом, его статью «О Чехове» (1964) можно рассматривать как код к криптопоэтике образа. На поверхностном уровне это сцена, когда первые же рассуждения Федорченко «о том, как ему трудно жить в этом мире», рассказчик пресекает известной чеховской фразой: «Пьете вы много, вот что, — сказал я ему в ответ» ( Газданов , т. 2: 97). Такой совет дал некогда писатель, его Газданов приводит в своей статье «О Чехове»8:
«…когда при нем какой-то русский интеллигент жаловался — “рефлексия заела, Антон Павлович”, Чехов ему ответил — “а вы водки меньше пейте”» ( Газданов , т. 3: 662).
Далее разговор героев продолжается в ироничной стилистике чеховских писем:
«— Вы меня тоже не понимаете. Поймите, — сказал он, повысив голос и ударив кулаком по стойке, — все, что я люблю в этом мире, это вот там — и он уставился в потолок. Я невольно поднял голову и увидел слегка закопченную известку, лепные вазы и круглые электрические лампы» ( Газданов , т. 2: 97).
«Пробудившийся» Федорченко задает онтологические вопросы в доступной для него форме:
«Вот, скажите, пожалуйста, <…> я хочу задать вам один вопрос. Вы не можете мне объяснить, зачем мы живем? <…> Вот люди живут, — сказал он с усилием, — и вы, например, живете. А скажите мне, пожалуйста, к какой точке вы идете? Или к какой точке я иду? Или, может, мы идем назад и только этого не знаем? <…> А что ж тогда делать? Это так оставить нельзя» (Газданов, т. 2: 98–99); «…зачем мы живем? что такое завтра? почему люди занимаются искусством? что такое музыка?» (Газданов, т. 2: 106).
По Газданову, «Чехов всегда писал простым языком о самых простых вещах»:
«…его творчество — все те же вечные трагические и неразрешимые проблемы, вне приближения к которым не существует ни подлинного искусства, ни подлинной культуры. Что такое мир, в котором мы живем? Что такое жизнь? Что такое наша судьба? Можно ли найти какое-то гармоническое построение в этом бесконечном множестве противоречивых начал? Можно ли найти оправдание тому, что мы видим и знаем? Что такое смерть? Что такое любовь? Что такое мораль? Что такое зло? Я намеренно упрощаю все в этом перечислении. <…> Все, что описывает Чехов, гораздо проще, прозаичнее, это обыкновенная жизнь обыкновенных людей» ( Газданов , т. 3: 662–663).
Именно так «просто» эти вопросы звучат в чеховском рассказе:
«Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы» ( Чехов : 109).
Герой-рассказчик «Ночных дорог» не отвечает на эти вопросы, он давно осознал их трагическую неразрешимость и сожалеет о душевном опоздании Федорченко, оказавшемся для него губительным. Пара этих героев как будто демонстрирует основной постулат газдановской статьи: творчество Чехова — субстрат «полнейшей безотрадности, полнейшего отсутствия надежд и иллюзий»:
«Он <Чехов> как бы говорит: вот каков мир, в котором мы живем. Он устроен именно так, это не случайность, это не результат ошибки или несправедливости, которую можно исправить. Исправить ничего нельзя. Мир таков, потому что такова человеческая природа. <…> все это совершенно безнадежно — и в каком-то смысле похоже на письмо мальчика, который живет у сапожника и пишет “на деревню дедушке”9. Пожалуй только, что в отличие от мальчика, Чехов знает, что никакое обращение ничему не поможет и никуда не дойдет» (Газданов, т. 3: 656-657, 663)10.
Однако тотальная беспросветность повествования (критики не раз называли «Ночные дороги» самым мрачным произведением Газданова) как будто нарушается в конце романа. В одной из последних сцен перед нами своеобразный двойник Федорченко — Сюзанна, молодая женщина, проститутка, по нелепой случайности связавшая свою жизнь с русским эмигрантом:
«Она настолько подчинилась ему, что в его присутствии невольно начала говорить с неправильностями и теми особенными нефранцузскими интонациями, которые были для него характерны, — и лишь расставшись с ним, опять приобретала обычный для ее нормальной речи улично-парижский оттенок» ( Газданов , т. 2: 96).
Поначалу брак был благополучен:
«…были счастливы, устроены, своя квартира, своя мебель <…> на материальное положение тоже нельзя было жаловаться, тем более что она, тайком от мужа, работала два вечера в неделю <…>. Муж ее обожал, она обожала мужа» ( Газданов , т. 2: 104).
Далее — страдания и «начало общего безумия»:
«…она жила в состоянии непонятного, животного страха все эти последние дни. <…> …она инстинктивно чувствовала надвигающуюся катастрофу, и нечто, почти похожее на предсмертное томление, не оставляло ее. — Я задыхаюсь в этом, — говорила она, — я схожу с ума» ( Газданов , т. 2: 105).
Страдания провоцируют метаморфозы:
«Она подурнела и изменилась, и ее детски-преступное лицо приобрело нехарактерную для него серьезность, и сквозь все краски, которые она на него накладывала, вдруг стали проступать человеческие черты, как на старинной картине, после первой попытки реставрации выступают неожиданные подробности, проявляющие ее прежний, скрытый до тех пор, смысл» (Газданов, т. 2: 206).
Кульминацией этого превращения становится сцена в больнице на следующее утро после самоубийства Федорченко — Сюзанна стала матерью:
«Она очень изменилась за одну ночь, на ее лице было необычное для нее — и новое для меня — выражение почти торжественного спокойствия. Она была неузнаваема, как будто она поняла какие-то необыкновенно значительные вещи, которых, конечно, не узнала бы никогда, если бы им не предшествовала эта непонятная трагедия…» ( Газданов , т. 2: 212–213).
Как отмечали исследователи Чехова, материнское чувство Оленьки (ср.: «основа ее увлечений во всех случаях — материнское, стихийное, не раздумывающее чувство, жалостливость, доброта, готовность обласкать, одарить, отдать все до конца…» [Паперный: 308]), реализовавшееся в полной мере в заботе о чужом ребенке, о Сашеньке, одухотворяет образ героини. Как известно, Толстого очень впечатлил рассказ, он неоднократно перечитывал его вслух, при помещении в «Круге чтения» снабдил послесловием, высказав свое понимание смысла произведения, в котором увидел «идеал женщины». По Толстому, Чехов не желая того, в образе Оленьки «бессознательно» запечатлел женщину в ее естественном и высшем предназначении — быть матерью и поддержкой для мужа, хранительницей семейного очага, «полного отдания себя тому, кого любишь»11. Не осмеянию подвергнута душечка, но вознесена.
Неизменный пиетет Газданова к философским постулатам Толстого делает правомерным вопрос: не отразилось ли в концовке романа толстовское толкование душечки? Подхватывая чеховский материнский дискурс в интерпретации Толстого, Газданов венчает трагическое повествование о самоубийце, не справившемся с онтологическими вопросами, образом пережившей катарсис Сюзанны, образом новой жизни. Но ка жется, следуя чеховской ироничной манере,
«Этот прелестный рассказ “Душечка”»… 147 в почти сакральный портрет женщины-матери (мадонны) (вспомним сравнение со старинной картиной (иконой) выше), Газданов вносит «приземляющий» штрих:
«Волосы ее были аккуратно причесаны, золотой зуб блестел из-под приподнятой верхней губы. — У меня мальчик, — сказала она. — Какая драма, не правда ли? По крайней мере, теперь можно сказать, что все кончено. — Да, кончено, — повторил я» ( Газданов , т. 2: 213).
Будет ли преувеличением предположение о том, что финальная сцена придает оптимистическое звучание концовке романа? Сюзанна родом из деревни, в большом городе она потеряла себя, она проститутка, ее жизнь, несмотря на, казалось бы, внешние положительные факторы: замужество, коммерческое предприятие, материальное благополучие, — проходит в постоянном кошмаре, сумасшествие Васильева, заразившего Федорченко, отражается и на ней самой. Сюзанна постоянно обращается к герою-рассказчику с требованием разрешить ее проблему, помочь. Тот советует ей оставить мужа и уехать в деревню. Трижды повторена в романе фраза об отъезде в деревню: возвращение в деревню как возвращение к своим корням — не способ ли это избежать страшной гибели, войти в мир с самим собой, перейти из существования, которое стало невыносимо, в сущность? Прямо в романе это не сказано, но, возможно, в новом качестве Сюзанна действительно вернется в родные места, чтобы растить ребенка. Было бы возвращение к истокам возможностью выхода и для самого Федорченко, в котором постоянно подчеркивается его крестьянская натура, его происхождение?12 Ср.: «…если бы он уехал на другой конец света, изменил бы совершенно свою жизнь и забыл бы о том, что с ним происходило, — все равно, весь этот страшный мир, этот воздух, в котором он задыхался, все равно вернулся бы к нему» (Газданов, т. 2: 206). Представляется, что в «Ночных дорогах» автор воплотил собственное видение чеховского сюжета, т. е. создал конструктивную пародию, превышающую задачу осмеяния чужого текста13.
У Федорченко (и его двойника Сюзанны)14 есть и другие литературные прототипы, аллюзии на них ослабляют соотнесенность газдановских героев с чеховским образом, переводят ее в скрытый план, в область криптопоэтики. Усечение фамилии Федорченко до «m-r Федор» приближает героя к другому русскому писателю: он становится тезкой Достоевского, что наряду с прочими текстуальными «совпадениями», позволило исследователям предположить, что «фигура Федорченко — скрытая пародия на героев Достоевского» [Боярский: 280]. См. об этом также: [Кибальник: 175–176, 190–191].
Сама Сюзанна в некоторой степени также соотнесена с героинями Достоевского. В ее облике подозрительно часто упоминается деталь:
«…один передний зуб в верхней челюсти она сделала себе золотым, и это так нравилось ей, что она поминутно смотрелась в свое маленькое зеркальце, по-собачьи поднимая верхнюю губу» ( Газданов , т. 2: 14).
В разговоре с Платоном эта портретная подробность обыгрывается в абсурдистском ключе:
«— Вы знаете, у нас новость: Сюзанна выходит замуж.
— Сюзанна с золотым зубом?
— Сюзан на с золотым зубом.
И он повторил несколько раз, глядя прямо перед собой в дымное пространство:
— Сюзанна с золотым зубом, Сюзанна с золотым зубом, Сюзанна с золотым зубом выходит замуж, с золотым зубом, Сюзанна.
Потом он сказал эту же фразу, тоже скороговоркой, по-английски и замолчал на некоторое время» ( Газданов , т. 2: 88).
Навязчивое повторение сигнализирует о скрытом символизме детали: и если принять золотой зуб за ироническую метафору золотого сердца, то не метит ли она в классическую героиню Достоевского — проститутку с золотым сердцем? Соотнесение подкрепляется истерикой с обмороком, которыми злоупотребляет Сюзанна ( Газданов , т. 2: 108, 113), — излюбленными приемами Достоевского15.
Таким образом, интертекстуальная связь газдановского героя с чеховским затемнена несколькими факторами: переменой пола героя и литературного прототипа, наличием других прозрачных литературных прототипов, — что переводит эту связь в скрытый план, в область криптопоэтики. Публицистическое выступление Газданова «О Чехове» стало кодом, дешифрующим «чеховский» подтекст. В скрытой оптимистичности концовки романа, обнаруживающейся через обращение к толстовскому толкованию «Душечки», воплощено газдановское видение чеховского сюжета, т. е. в «Ночных дорогах» автор зашифровал конструктивную пародию на сюжет русской классики — пародию, превышающую задачу осмеяния чужого текста.
Список литературы "Этот прелестный рассказ “Душечка”" (чеховский образ в романе Газданова "Ночные дороги" в свете криптопоэтики)
- Александрова Э. К. Чеховская «Попрыгунья» в «Ночных дорогах» Газданова // Образ Чехова и чеховской России в современном мире: к 150-летию со дня рожд. А. П. Чехова / отв. ред. В. Б. Катаев, С. А. Ки-бальник. СПб.: Петрополис, 2010. С. 258-268.
- Александрова Э. К. А. П. Чехов в криптопародиях Гайто Газданова: заметки к теме // Вестник СПГУТД. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2021. № 3. С. 84-89. БОГ 10.464181/2079-8202_2021_3_13
- Боярский В. А. «Ночные дороги» Г. Газданова и «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского: опыт сопоставительного анализа // Исследовано в России. 2001. № 4. С. 273-281.
- Головачева А. Г. От «Попрыгуньи» к «Душечке» // Чеховские чтения в Ялте. Чехов в Ялте: сб. науч. тр. М., 1983. С. 20-27.
- Гушанская Е. М. Как сделана «Душечка» А. П. Чехова // «Свет мой канет в бездну. Я вам оставлю луч.»: сб. публ., ст. и мат-лов, посвященных памяти Владимира Васильевича Мусатова / сост. О. С. Бердяева, Т. В. Игошева. В. Новгород, 2005. С. 77-86.
- Катаев В. Б. Чеховские транссексуалы, или Техника «перенесений» // Dawni I Nowi. Szkice о literaturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy dedukowany professorowi Rene Sliwowskiemu. Warszawa: Studia Rossica, 2004. S. 81-87.
- Катаев В. Б. К пониманию Чехова: ближний и дальний контексты // Образ Чехова и чеховской России в современном мире: к 150-летию со дня рождения А. П. Чехова / отв. ред. В. Б. Катаев, С. А. Кибальник. СПб.: Петрополис, 2010. С. 9-17.
- Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе. СПб.: Петрополис, 2011. 412 с.
- Кубасов А. В. Идея «вырождения» в поэтике и криптопоэтике А. П. Чехова // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 206-221 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.petrsu.ru/files/ redaktor_pdf/ 1633672884.pdf (01.04.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9682
- Мелкова А. С. Творческая судьба рассказа «Душечка» // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 78-96.
- Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Уфа: РИО БашГУ 2005. 207 с.
- Паперный З. С. Записные книжки Чехова. М.: Советский писатель, 1976. 391 с.
- Родионова В. М. «Душечка» А. П. Чехова (Автор и его интерпретаторы) // Мир филологии: посвящается Лидии Дмитриевне Громовой-Опульской. М.: Наследие, 2000. С. 169-175.
- Свифт М. С. «Душечка»: рассказ о любви неустойчивой личности // Диалог с Чеховым: сб. науч. тр. в честь 70-летия В. Б. Катаева / отв. ред. П. Н. Долженков. М.: МГУ 2009. С. 85-100.