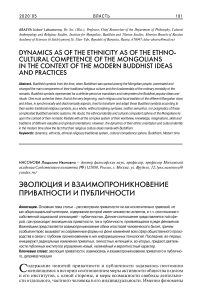Эволюция и взаимопроникновение приватности и публичности
Автор: Насонова Людмила Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
Основная тема статьи - рассмотрение приватности не как исключительно правовой, но как общесоциальной категории, содержание которой имеет множество аспектов, в т.ч. соотношение с собственной социальной оппозицией - публичностью. Данное соотношение представляется той сферой, где происходит эволюция как приватности, так и публичности, проявляющаяся в ряде феноменов. Важнейшим представляется взаимопроникновение обеих ипостасей человеческого бытия, причем особый интерес вызывают их современные формы на фоне изменений всех сфер общественного производства в связи с глубоким проникновением в них информационных технологий. Последние, во-первых, инициируют радикальные изменения приватных, личностных интенций и, во-вторых, придают деятельности публичных институтов управления новый, нелинейный и вероятностный характер.
Эволюция приватности, взаимосвязь и взаимопроникновение приватного и публичного, деприва(тиза)ция
Короткий адрес: https://sciup.org/170171215
IDR: 170171215 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7596
Текст научной статьи Эволюция и взаимопроникновение приватности и публичности
Содержание понятий приватности и публичности задавалось постоянно меняющимся в истории соотношением меры активности общества в целом и его институтов, с одной стороны, и меры возможности свободы деятельности отдельного, частного человека в его индивидуальности. Именно феномены приватности и публичности не только исторически формировали индивидуальное и общественное сознание, но и постепенно выявляли и их диалектическую противоречивость. Вопрос о соотношении приватности и публичности проистекает из фундаментальной проблемы соотношения личности и общества, индивидуального и общественного. Однако первая пара понятий содержит дополнительную коннотацию, предусматривающую осознание и конструирование ощутимой границы между личным и общественным. В предшествующие столетия эта граница существовала в основном в материальнопроизводственной сфере. Ближе к современности граница начинает просматриваться во всех сферах общественной жизни, и человечество ставит вопрос о роли личности в истории и о технических средствах, позволяющих личности противостоять обществу. Личность и общество как соотносительные системы социума институционализируются.
Сфера публичности открыта для интерпретации, содержание ее можно истолковывать как общество, сферы общественной жизни, социальную среду. Публичность представляет собой эксплицированность социальности в целом ряде исторически устойчивых институтов: она показывает нам публичность как несомненно необходимую, совершенно определенную и ясную открытость и активность социальной жизни; например, в области политики и права она служит фундаментом легитимности, в то же время она получает выражение во все более разнообразных возникающих в истории человечества институтах, таких как экономические, управленческие, религиозные, художественно-эстетические, технические. Все они для своего существования требовали открытых активных действий личности, и все они в истории имели тенденцию к расширению и усложнению внутренней структуры.
Понятие приватности, подобно понятию публичности, поначалу зародилось в правовой сфере. «Приватность – фундаментальное право человека и находится в одном ряду с правом на жизнь и свободой убеждения» [Смирнов 2002: 9]. Феномен приватности также имеет тенденцию к изменению и совершенствованию, но иными путями, а именно не путем выстраивания внешних структур, но путем дифференцирования человеческой деятельности и внутренне-духовного мира человека, совершенствования способности различения частного и публичного, рационального и иррационального, своего (имманентного) и чужого и укрепления способности защиты собственного личного бытия, своей приватности. В сфере ее развития совершенствуется автономия личности, такие ее грани, как внутренняя свобода, интимность, необходимое одиночество, собственное достояние и собственное достоинство. «Приватность самым непосредственным образом связана с идентичностью человека и включает целый комплекс различных элементов. Право на приватность представляет собой не единичное (ординарное) право, а право сложносоставное, включающее комплекс прав, конституционно и международно гарантированных, много шире, чем только права на личную и служебную тайны, тайну частной жизни [Сербин 2016: 8]. В истории европейской культуры мы прослеживаем такие тенденции эволюции приватности, как тенденции перехода от религиозного ритуала к религиозному чувству, от соблюдения требований этикета различного уровня и социальной природы – к глубоко личным ощущениям нравственного долга, совести, ответственности, от внешне детерминированной свободы и несвободы – к внутреннему и оправданному разумом принятию ограничения личной свободы как волевому акту.
В сфере приватности происходит постоянное конструирование личного бытия, свободы выбора и реализации ответственности. Приватность и есть тот феномен, или атрибут, который и делает личность не просто индивидом, но социальным институтом. Однако и публичность – это не просто внешняя характеристика социальности, но и в определенном аспекте характеристика личности, т.к. именно в публичной сфере происходит идентификация личности, легитимация того образа «я», который создается каждым человеком, очерчивание горизонта его самоопределения. Внешнее и внутреннее в человеке должны не только наличествовать и быть развитыми, но и быть согласованными.
Нельзя не отметить ясно выраженные черты самоопределения личности (приватизация личности как субъекта) в ту эпоху, когда она, собственно, и становится самодостаточной формой социума – в период индустриальной революции. Именно в эту эпоху Кант формулирует вопросы, которые задает человек, очерчивая границы своего бытия в мире. Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? В этих вопросах выражена осознанная возможность деятельности личности, соответственно, в научной, моральной и религиозной сферах жизни общества. Достоевский позже (с естественным российским запаздыванием) добавил к этим вопросам еще один, сакраментальный: «тварь я дрожащая или право имею?», исчерпывающе определив реальную возможность активности любого человека в правовой сфере. Итак, важнейшей характеристикой человеческой приватности мы считаем не ее отграниченность от публичной сферы, но прежде всего активность и реальное ценностное равенство интимно-приватной ипостаси человека с его социально-публичной ипостасью.
С того времени, когда социум оформляется в развитое большое общество, идет взаимодействие указанных противоположных и взаимно необходимых его форм. Личность приватизируется, осознавая частный интерес, отличный от интереса общественного. Начинается противостояние осознающей себя личности и общества с его различными инструментами самоопределения, а заодно и подавления тех, кто выражает сомнение в степени активности форм этого самоопределения. Такими инструментами можно считать систему управления вместе с репрессивным аппаратом, рынок, закон и идеологию, часто разделенную на светскую и религиозную отрасли, подчас находящиеся в сложных отношениях по поводу той или иной меры принадлежащей им власти.
Если вскользь просмотреть историю европейской культуры как историю человеческого духа, то можно усмотреть в ней нечто вроде чередования (или альтернативного существования) периодов господства публичных форм человеческой деятельности и периодов преобладания приватности – частного интереса именно как нормы жизни. Так, в Древней Греции классического периода активность в публичной сфере служила признаком достоинства человека [Арендт 2000: 51], частная жизнь неявно была объектом негативной оценки. Однако позже мы видим интерес к частной, личной духовной жизни у эпикурейцев и стоиков: в их воззрениях приватность мыслится как обиталище подлинного человека, философа; публичность же представляется как отчужденная социальность, в лучшем случае – в виде непознаваемой и чуждой человеку судьбы. В период становления христианства и его выхода в сферу публичности воинствующая церковь вполне допускала и даже санкционировала отшельничество. Становление европейских систем политики и права в эпохи Возрождения и Нового времени, являвшихся регуляторами новой сферы публичности, соседствовало со складыванием философских принципов и психологии индивидуализма. В XIX и XX вв. высокий уровень внешнего социального активизма во всех сферах общественной жизни сочетается или чередуется с человеческим «подпольем», или интересом к глубинам экзистенции.
Публичность имеет тенденцию к внешнему усложнению, приватность – к внутреннему. Однако и первая, и вторая – лишь характеристики социума, представленного в любой форме человеческой деятельности. Противоположности проникают друг в друга, и со временем, ближе к современности, внешние формы публичности все больше захватывают внутреннее пространство личности, в то время как приватность для своего развития и утверждения требует перехода во внешние формы, т.е. в сферу публичности. В развитом обществе возникает запрос на оригинальную личность, на публичную приватность, не боящуюся публичности, но бросающую ей вызов; время канонов проходит, начинается смена ценностей, причем очевидно и встречное движение. Публичная сфера проявляет агрессивность, завоевывая интересы, потребности, идеалы, носящие приватный характер, и диктует поведенческие паттерны, долженствующие символизировать свободное принятие внешних требований, тем более что уже сформированной личной ответственности свойственно внимание к проблемам социальной реальности, и очень часто – в форме игры в сознательное ограничение собственной свободы. Все это требует постоянного баланса между индивидуальностью и социальностью человека, а постоянное соблюдение баланса рождает неизбежную трансформацию идентичности личности в сторону ослабления позиций приватности.
Приватность предусматривает сочетание личной ответственности с социальной. Последняя заключается в следующем: публичная сфера имеет явную тенденцию к «мумифицированию», «омертвлению» собственных форм ради их сохранения. Приватная сфера свободна в своей субъективности, т.е. субъектна; это резерв живого, самодеятельного публичного пространства. Концепт ответственности распространяется личностью на общество в целом или любую его сферу. Однако любые резервы, даже восполняемые, могут временно иссякать. Современная культура демонстрирует нам примечательное явление – позиционирование личности, т.е. явственное превращение приватного в публичное. В основном это происходит по причине обесценивания приватности. То что общество не смогло интегрировать в публичные формы, оно игнорирует. Если не явно магистральным путем технического развития является отчуждение человеческих функций и передача их техническим устройствам, значит, происходит неявная, недемонстративная элиминация человека из сферы деятельности по преобразованию объективного мира. Последнее же представляет собой вообще сущность человека.
В то же время этот процесс сталкивается с процессом проникновения приватности в публичную сферу, граница с которой становится все прозрачнее; в публичном пространстве все большее место занимают «частные тайны и интимная жизнь» [Бауман 2008: 48], и это не что иное, как расширение свободы «я», отвержение приватности как самоизоляции и утверждение публичности приватности. В качестве примера можно сравнить изложенную позицию с теорией социальных ролей, ведь именно публичная сфера – «площадка для статусно-ролевого поведения людей» [Гофман 2000: 285]. Однако современная приватность в публичной сфере не нуждается в заранее написанной роли, в готовом театральном костюме – она может явиться нагишом или в невообразимом карнавальном костюме. В этих процессах противостояния личности и общества, приватного и публичного отдельные индивиды разобщены, мало где организованы в гражданское общество (или хотя бы в церковь), и сформировавшаяся приватность личности начинает сменяться деприватизацией, процессом значительно более глубоким, чем простое соперничество приватного и публичного. Процесс этот проходит медленно и в самых разнообразных формах. Так, возможны потеря приватной идентичности вследствие плано- мерного сужения сферы непосредственной жизни человека, затем ущербность приватности и, наконец, «вымывание» такого приватного качества личности, как интимность. Можно сказать, что в ту эпоху, которую принято называть эпохой Постмодерна (а в наши дни предлагается также и термин «метамодернизм»), приватность поглощается публичностью, «постмодернисты сглаживали глубину средствами поверхности, а метамодернисты применяют глубину к поверхности» [Метамодернизм… 2019: 353].
Деприватизация личности начинается с маргинализации, с утраты очертаний социальной идентичности, а затем – и интимной идентичности, знаменуемой утратой личной внутренней ценности. И дело не в том, что все эти продукты собственного самоотчуждения можно выставить на продажу, а в том, что оно не нужно самому собственнику, никому не нужно и поэтому и не покупается. Отсюда проистекают два процесса: с одной стороны, публично-социальной сфере ничто не противопоставляется – лишь диффузная «масса» духа, следовательно, и публичные институты лишаются поля действия. С другой стороны, деприватизация личности – это еще не окончательная потеря собственного «я», которое сопротивляется как может, однако не в санкционированных обществом формах, а в тех случайных, что предоставляет быстро меняющаяся обыденная действительность. «Человек не хочет более молчать: всякое малейшее чувство, всякую новую шевельнувшуюся мысль он торопится высказать другим, разрисовать ее в красках, расцветить в звуках, непременно закрепить печатным станком» [Розанов 1990: 278]. Радикальные изменения, происшедшие в современную эпоху в области человеческого коммуницирования, его масштабах, технических средствах, скорости, изменяют и сложившиеся средства проникновения частного в публичное.
Личность, стремясь вновь обрести себя, применяет не привычные, адекватные средства (научный дискурс, религиозное чувство, лирика), а уродливые копии внешних образов публичности, которые служат единственной цели – созданию нового образа, постоянному обновлению ощущения собственного бытия. В частности, примером может быть увлечение «селфи» и демонстрация себя в социальных сетях (это я! я!). Тело человека – это стена для граффити или строительный материал для стандартной продукции пластической хирургии; лицо человека – материал для рекламы. Можно привести множество примеров деинтимизации, особенно в Интернете и телевидении, – это то, что когда-то называли просто бесстыдством, но сейчас это не бесстыдство, это попытка удержать ускользающее бытие, никому не нужную самость, ту самую приватность. Осмысленная и продуктивная деятельность сменяется карнавалом, перформансом, и все это – кривое зеркало социальной публичности, ее фиктивный противник, который не создает противодействия и поэтому не позволяет совершить действие, и огромные системы управления и организации информации в определенной мере тоже приобретают черты фиктивности, превращаются в игру, в ритуалы выражения лояльности.
Постановка вопроса о соотношении приватного и публичного, с одной стороны, потребовала четкого выявления, отграничения и определения обеих сфер, с другой – обнаружила все большее их взаимопроникновение. Мало того, можно сказать, что в прошлые эпохи явственно прослеживалась тенденция диктата публичности по отношению к приватности, стремление загнать приватное в рамки и либо вытеснить его в сферу неявного знания, неотреф-лексированной ментальности, либо заставить его принимать формы, диктуемые публичностью, а точнее, публичной властью. В современности, видимо, все более проявляется обратный процесс: интимное, приватное вторгается в сферу публичности, частично разрушая ее, и в то же время меняя ее харак- тер и утверждая ее в новых формах. Интимная жизнь духа оказывает влияние на каноны внешней жизни: так, разговорный язык (и сам постоянно обрастающий инвективой и жаргоном) вытесняет язык литературный, который заимствует черты и функции бюрократического языка, как бы становясь под защиту государственной публичности (дирижер симфонического оркестра меняет фрак на футболку; интимный, почти не осознаваемый и не принимаемый во внимание процесс ассоциаций превращается в схематичную ментальную карту). Примеров при желании можно найти множество, но в любом случае тенденция очевидна.
Процессы обесценивания личности, деинтимизации, деприватизации осуществляются во внешней по отношению к ним и противоположной форме – в сфере публичности. Большой социум, подчиняя малый социум, заставляет последний защищаться на территории противника, привнося и в большую социальную жизнь те удивительные феномены, которые создает сфера человеческой приватности. Сформировавшись, сфера человеческой жизненной приватности проявляет черты роста и развития и, встречая сопротивление со стороны публичной сферы, сохраняет себя даже путем редукции, даже путем выработки превращенных форм, даже превращая интимное в публичное, выворачивая себя наизнанку. Тем самым она проходит путь созревания и стремления занять в обществе значительно большее место, чем то, что было предоставлено ей историей. Это особый вопрос и очень обширная область изучения. Можно проследить в этих процессах вытесненный из сферы философского дискурса, но тем не менее реально существующий диалектический процесс соотношения в социуме приватного и публичного, индивидуального и общественного.
Список литературы Эволюция и взаимопроникновение приватности и публичности
- Бауман З. 2008. Текучая современность. СПб: Питер. 240 с
- Гофман И. 2000. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле. 302 с
- Метамодернизм. Историчность. Аффект и глубина после постмодернизма (под ред. Р. ван ден Аккера). 2019. М.: РИПОЛ-классик. 494 с
- Розанов В.В. 1990. Несовместимые контрасты жития. М.: Искусство. 605 с
- Сербин Д.С. 2016. Конституционно гарантированное право на приватность. М.: Принт Про. 193 с
- Смирнов С. 2002. Приватность. М.: Права человека. 93 с