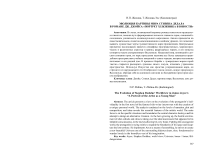Эволюция картины мира Стивена Дедала в романе Дж. Джойса "Портрет художника в юности"
Автор: Жилина Наталья Павловна, Жилина-Элс Татьяна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье, посвященной первому роману известного ирландского писателя, показан путь формирования личности главного героя, связанный с созиданием уникального индивидуального мироздания. Анализ проводится на повествовательном, сюжетно-композиционном и идейном уровнях, что позволяет выявить сущностные черты художественного мира произведения. Центральным предметом исследования является специфика пространственных, мировоззренческих и религиозных структур и границ, разрушаемых героем, и его попытка сотворить некую альтернативную Вселенную. Идеальный мир, возникший в детском сознании героя, по мере взросления мальчика все более замещается враждебным пространством учебных заведений и чужих городов, которое постепенно поглощает и его родной дом. В процессе борьбы с чужеродным миром герой тщетно старается расширить границы своего локуса, отвоевать утраченное пространство. Используя Искусство как средство упорядочивания мира, он стремится из окружающего его безобразного хаоса создать новую прекрасную Вселенную, обрекая себя на одинокие скитания по бескрайним просторам своего воображения.
Джойс, стивен дедал, картина мира, вселенная, дом, роман воспитания
Короткий адрес: https://sciup.org/149139243
IDR: 149139243 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_367
Текст научной статьи Эволюция картины мира Стивена Дедала в романе Дж. Джойса "Портрет художника в юности"
Роман Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» появился на переломе двух столетий и стал своеобразным отражением границы, пролегшей не только между двумя веками, но и между совершенно различными картинами мира. Многочисленные открытия в области естествознания, коренным образом повлиявшие на сознание человека, на его отношения с миром и обществом, трансформировали саму европейскую культуру Высокие скорости и устремившиеся вверх небоскребы, массовое изготовление товаров и массовое же уничтожение людей стали реалиями XX в.: сметая традиционные идеи и системы, они кардинальным образом изменили жизнь представителей европейской цивилизации. Такой «взрыв» в европейском и мировом сознании поставил всех писателей этого периода перед вопросом о значимости аксиологических доминант предыдущей эпохи в новое время.
Дж. Голсуорси, У.С. Моэм, Г. Уэллс, Джером К. Джером, Р. Киплинг, Дж. Конрад, Г.К. Честертон, талантливо трансформируя формы романа, считали необходимым постулировать вечные ценности. В то же время глубокая уверенность в обреченности старых форм жизни побуждает таких писателей, как В. Вульф, Д.Г. Лоуренс, Т. Манн, формулировать новые законы этики и искусства, порывая с эстетикой и традициями реализма, приведшего, по их мнению, существующую культуру к глубокому кризису. Авторитетными учеными «модернизм описывается как одно из глубочайших изменений и потрясений, какое случалось за всю историю литературы, <...> когда ценности и системы, стабильно существовавшие веками, ставились под сомнение и часто низвергались» [Routledge 1997, 400; все переводы приведенных научных исследований выполнены мной. - Т. Жилина-Элс]. Всестороннее обновление становится ключом к пониманию этого художественного течения, отразившего общий взгляд на действительность. «У людей, живших в то переходное время, было ощущение, что они действительно вступают в новую эпоху, где будет иная мораль, иная философия, иная религия», - справедливо считали известные отечественные ученые [Гениева, Кагарлицкий 1994, 374].
К числу наиболее масштабных фигур относится и Джеймс Джойс, также представивший свое видение нового человека в новом мире, которое повлияло на весь литературный процесс. Сборник рассказов «Дублинцы», опубликованный в 1914 г. и ставший его литературным дебютом, является еще продолжением традиции XIX в., хотя и с некоторыми элементами новых литературных форм. Однако первый роман писателя «Портрет художника в юности», в то же самое время появившийся в журнале «Эгоист» и вышедший в форме книги лишь двумя годами позднее, представляет собой уже качественно новое произведение. В нем на равных правах присутствуют реалистическое, символистское и модернистское начала [Johnson 2004, 199], его можно назвать «романом на границе», романом эпохи великих перемен. Изменение картины мира, характерное для всей Европы, представлено в произведении через восприятие конкретного человека, процесс формирования личности кото-368
рого происходит в это время. Активное неприятие реальности и поиски путей ухода от нее, провозглашение изолированности индивидуума в качестве основного закона современной жизни обуславливает стремление к проникновению во внутренний мир героя. По словам Дж. Г. Бакли, одного из авторитетных исследователей-джойсоведов, «... в XX веке “Портрет художника в юности” продолжил традиции романа воспитания (Bildungsroman), а точнее, романа воспитания художника (Ktinstler-roman), став одним из его воплощений» [Buckley 1974, 226].
Сразу после своего появления первый роман Джойса получил множество благожелательных отзывов современников, среди которых были Э. Паунд, В. Вульф, Г. Уэллс. Однако вышедший в 1922 г. «Улисс» полностью завладел вниманием читателей и критиков, отодвинув «Портрет» на второй план. Смерть писателя в 1940 г. заставила по-иному взглянуть на его раннее творчество и заняться его исследованием.
Событийной канвой романа Джойса является, как известно, жизнь его главного героя, Стивена Дедала, с рождения и до момента его личностного становления как художника. Повороты жизни мальчика, представленные в «Портрете», неоднократно сопоставлялись с биографией самого Джеймса Джойса в исследованиях Р. Эллманна [Ellmann 1959], Р. Кейна [Kain 1962; Kain, Scholes 1965], У.Й. Тиндалла [Tindall 1959], М. Биба [Beebe 1964] и др., видевших в Стивене прежде всего alter ego автора. X. Кеннер [Kenner 1956] и Р. Риф в «Новом подходе к Джойсу» [Ryf 1962] одними из первых рассмотрели «Портрет» как центральный пункт в творчестве писателя, содержащий в себе «отмычку» к остальным работам Джойса. Связь «Портрета» с европейской литературной традицией романа воспитания особо подчеркивают Г. Левин [Levin I960] и Дж. Бакли [Buckley 1974], исследовавшие роман в контексте всего творчества Джойса и видевшие развитие Стивена Дедала как художника в качестве основного сюжетообразующего фактора.
В советском, а затем в российском литературоведении до 1980-х гг. «Портрет» освещался обычно либо в контексте общеевропейского литературного процесса и английской литературы XX в., либо при описании творчества Джойса в целом. На новом этапе большой вклад в изучение творчества Джойса внесли работы И.А. Влодавской [Влодавская 1987], Е.Ю. Гениевой [Гениева 1982], С.С. Хоружего [Хоружий 1993], которые стали отправной точкой для дальнейших изысканий, появившихся в последние десятилетия. Художественное своеобразие первого романа писателя исследовалось не только в статьях, но и в диссертационных работах [Татару 1993; Акимов 1996; Антонова 1999; Курилов 2004; Жилина 2008]. Хотя творчеству Джойса и, в частности, его первому роману посвящено немалое количество работ, до сих пор остается не рассмотренной одна из важных проблем этого произведения, связанная со спецификой картины мира главного героя в ее эволюции, - этот пробел и должна восполнить предлагаемая статья.
Термин «картина мира», который, как известно, был введен в науч- ный оборот учеными-физиками, в XX в. стал одним из важнейших в понятийном аппарате гуманитарных наук. По определению философского словаря, «картина мира - это совокупность представлений о мире, существующая как научные и философские концепции в общественном или индивидуальном сознании. Философская картина мира имеет мировоззренческое основание и выражается как: мифологическая, религиозная, идеалистическая, материалистическая, космоцентрическая и т.д. картина мира» [Удовиченко 2004, 102]. Определяя особый способ восприятия и истолкования событий и явлений, картина мира имеет исторически обусловленный характер и представляет собой основу мировосприятия как человеческих общностей, так и отдельных людей. Известный исследователь культуры XX в. В.П. Руднев, определяя картину мира как систему «интуитивных представлений о реальности» [Руднев 1997, 127], с полным основанием утверждает, что картина мира среднего человека в XX в. резко изменилась в сравнении с предшествующим столетием, поскольку «три кита культуры начала XX в. - кино, психоанализ и теория относительности - резко сдвинули картину мира XX в. в сторону первичности, большей фундаментальности сознания, вымысла, иллюзии» [Руднев 1997, 129]. Таким образом, раскрытие внутреннего мира отдельного человека (основной предмет изображения европейской литературы в Новое время) и анализ его картины мира приобрели в XX в. исключительную актуальность. Сложная душевная динамика главного героя первого романа Джойса в пристальной и тонкой ее передаче сразу привлекла внимание и до сих пор вызывает несомненный интерес, чем и объясняется центральная проблема данной статьи.
На первых страницах произведения перед читателем предстает тот период в жизни героя (как и в жизни почти каждого человека), когда реальный мир еще неотделим от мира воображаемого. Ребенок живет на границе двух миров: реального и сказочного (идиллического): Стивен ощущает себя сыном своих родителей - и одновременно героем сказки, которую ему рассказывает отец. Все пространство дома, которое разворачивается вокруг него, имеет определенную направленность, и ее центром является он, малыш Стивен. Песенка, которая поется, - это его песенка, матросский танец - его танец, и только для него мама играет на рояле, а дядя Чарльз и тетя Дэнти хлопают в ладоши. Приятно в этом доме все, что могут уловить пять человеческих чувств: и сказки, и стишки, которые ласкают слух, и даже мокрая пеленка (ведь ее подойдет менять мама, от которой приятно пахнет), и вид всех домашних (мама красивая, но, когда она плачет, она не такая красивая; а папа смотрит через стекло, и у него волосатое лицо), и вкус леденцов, которые, как Бетти Берн в сказке, дает ему тетя Дэнти. С полным основанием можно согласиться с утверждением Дж. Лэнема о том, что «чистое восприятие мальчика Бубу на первых страницах совершенно идиллично» [Lanham 1977, 82].
В первой эпифании [законченный этюд, содержащий в себе внезапное эмоциональное «озарение», элемент структуры текста, который является составной частью каждой из глав романа] локусы плавно сменяются, переходя один в другой, представляя различные виды и формы единого мира, а люди разного возраста и пола лишь дополняют друг друга. Стивена окружают не только живые, но и давно почившие люди - предки, портреты которых висят в доме. В сознании маленького ребенка нет никаких границ: ни пространственных (дверей, окон, стен и т.д.), ни временных (день / ночь; иное столетие), ни в отношениях с окружающими. Пространство, представленное в первой эпифании, - это квинтэссенция идеальной Вселенной, которая мала (только его дом и ближайшие соседи) - и велика одновременно (корова Муму идет по нескончаемой дороге); сильно сконцентрирована (она вмещает в себя все, что необходимо для жизни), но и просторна (он танцует, играет, прячется, видит другие дома и иных людей, которые гармонично вписываются в эту Вселенную); и самое главное - она принадлежит ему, Стивену. Он является ее центром, ее смыслом, ее властелином.
Если рассмотреть организацию художественного пространства, представленную в первой эпифании, с точки зрения современных теорий возникновения мира, то можно сказать, что это - Вселенная до «Большого Взрыва» [Большой Взрыв - общепринятая космологическая модель, описывающая начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии]. Первым своеобразным «взрывом» этого вселенского пространства героя становится отъезд в иезуитский колледж. Это событие запускает процесс качественной трансформации его мировосприятия, изменяя и его собственное положение. Герой внезапно осознает, что в этой новой Вселенной существуют и иные миры, многие из которых ему враждебны, и в них он уже не властелин и даже не счастливый мальчик, а лишь маленький человечек, окруженный вплотную подступившим чужеродным пространством. Для того чтобы освоиться в этом неожиданно возникшем перед ним мире, Стивен пытается разграничить и структурировать его, противопоставляя определенные элементы друг другу.
Будучи в своем прежнем (изображенном в первой эпифании) мирке, он также сравнивал, но это был процесс не противопоставления, а добавления: «Мама красивая, а у папы борода» - папа не хуже и не лучше, он просто есть и теперь их двое, а еще есть Дэнти и дядя Чарльз, а еще Вэнсы. Теперь, в новом для него мире все элементы пространства представляются откровенно враждебными, а все, что ласкало его чувства дома, здесь отсутствует: сам колледж ассоциируется с туннелем, еда кажется отвратительной, главным ощущением его тела является холод (слово «холодный» повторяется более 30 раз во второй эпифании этой главы), полностью отсутствуют яркие цвета, зато героя преследуют неприятные запахи. Как отмечает Крисси Кинг, «запахи открывают возможности не только для его самоуглубления, но и для более точного восприятия всего окружающего» [King 2010-2011, 16]. В учебном заведении большинство запахов вызывают у Стивена тошноту, будь то запах еды, напитков или помещений. В то же время за стенами колледжа даже самые обычные запахи становятся привлекательными: «В воздухе чувствовался запах сумерек, запах полей в деревне, где они выкапывали репу и сразу же ее чистили и ели, когда шли на прогулку к усадьбе майора Бартона; запах маленький рощицы за беседкой, где растут чернильные орешки» [Joyce 1992, 61; перевод мой. - Т. Жилина-Элс]. Враждебный мир колледжа разворачивается вокруг мальчика и держит его в своих цепких объятиях, заставляя чувствовать себя маленьким и слабым. Единственным просветом в конце этого «туннеля» является поездка домой на каникулы. Родной дом - с золочеными канделябрами и старинными портретами на стенах, с трюмо в прихожей и зеркалом над жарко горящим камином - оказывается в центре его Вселенной как своеобразный источник света, нерушимый элемент былой идиллии, и весь остальной мир теперь противопоставлен дому.
Атмосфера родного, близкого и дружелюбного для Стивена пространства распространяется на весь городок, создавая ощущение «домашности» Блэкрока. Все находящиеся здесь строения: и его собственный дом, куда он неизменно возвращается, и магазины на главной улице, и «домик Мерседес» на проселочной дороге, и те незнакомые здания, которые он видит во время поездок с молочником и в процессе своих блужданий, - представляют собой часть некой гармоничной общности, пронизанной неуловимыми внутренними связями. Здесь стремление Стивена «встретить в этом мире тот неуловимый образ, который все время чудился его душе» [Joyce 1992, 67], не кажется чем-то невероятным, это реальное пространство может, как ни странно, вместить в себя отражение той идиллической сказки, которая сопровождала его в детстве.
Расширение мира в сознании героя происходит не только горизонтально, подобно все увеличивающимся орбитам, как подметила Д. Ван Гент [Van Ghent 1964], но и вертикально:
Стивен Дедал Приготовительный класс Клонгоуз Вуд Колледж Сэллинз
Графство Килдер Ирландия Европа Земля
Вселенная [Джойс 1993, 13].
В этой системе имя Стивена Дедала располагается на самой вершине в полном соответствии с установленным им собственным статусом -властелина мира. Однако в реальной жизни эта громоздкая структура оказывается перевернутой и угрожает раздавить собой мальчика. К тому же дробление этой Вселенной еще не закончилось, и набирающее силу негативное пространство, как черная дыра, все увеличивается, засасывая и уничтожая все вокруг героя.
В этом случае не становится исключением и дом, казавшийся прежде нерушимым: его разбирают при переезде, и эти составные части уже никогда не смогут сложиться в нечто целое, но будут все больше и больше дисгармонировать друг с другом, пока не станут кучей осколков, сваленных вместе. Будильник, в конце романа лежащий на боку на полке над вечно холодным камином, становится той выразительной деталью, которая подчеркивает общее состояние этого домашнего мирка. По точному замечанию Б. Митчелл, ни денежные вливания (стипендия Стивена), ни развлечения, ни ремонт, ни введенные им «республиканские» законы общежития не смогут вернуть ту идиллию, которую он знал и любил всем своим существом [Mitchell 1976, 67].
Граница между прежней моделью Вселенной (где и герой, и дом занимали центральное положение) и новой (в которой они отброшены далеко на периферию) имеет не только пространственные признаки, но и временные, т.к. Стивен оказывается в пустом и неуютном новом жилище накануне Рождества. Предрождественская атмосфера не проникает ни в дом, ни в сердце героя, а «веселые наряды магазинов, залитых светом и украшенных огоньками к Рождеству» [Joyce 1992, 69] лишь сильнее акцентируют различия между прежним Рождеством и теперешним, между украшенным тогда домом и наряженными теперь улицами. Это пустое, унылое, поддельное в глазах мальчика торжество лишь подчеркивает отсутствие настоящего праздника в новом пространстве и усиливает разрыв между книжным идеалом солнечного Марселя, который лелеет его воображение, и реальностью серых улиц туманного Дублина, которые его окружают.
Родной дом уже мало чем выделяется из чужеродного пространства. Он перестает быть защитой для своих обитателей, будучи не в силах оградить их от нападок враждебного мира, постепенно мимикрируя и сливаясь с окружением. Портреты предков, сиротливо стоящие на полу у стены, перестают поддерживать дух Стивена, легенды, с ними связанные, тускнеют, а сами предки превращаются из его соратников в молчаливых безучастных свидетелей, подобно портретам святых, висящим в темных коридорах колледжа. Ощущая свою чужеродность, герой все более внутренне отдаляется от серого пространства полного фальшивых людей.
Единственным, что еще остается во власти героя, является его собственная душа, которую он пытается оградить от враждебного мира, укутывая в кокон воображения. Сознание убожества его дома и его разума побуждает Стивена написать о душе, затянутой в болото убогой жизни и оставленной «...без возможности когда-нибудь хоть чуточку приблизиться.. .» [Джойс 1993, 83] к Творцу, к высокому и идеальному миру. Замечание учителя, что это утверждение является ересью, заставляет Сти- вена изменить мысль: в угоду учителю он написал, что душа не имеет «... возможности когда-нибудь достигнуть...» [Джойс 1993, 83] Творца, но эта уступка не способна по-настоящему изменить его отношение к положению души, униженной пребыванием в этом недостойном и враждебном ее стремлениям мире. Только чтение литературы, в особенности романтических писателей-бунтарей (Байрон, Шелли), укрепляет его душевные силы и помогает подняться над обыденной реальностью.
Укореняясь в своей гордости и обретая силы для борьбы с враждебным ему пространством, герой старается расширить границы своей Вселенной и отвоевать утраченное. Главным его стремлением становится жажда возвратиться в то блаженное состояние, которое он испытывал в детстве. Каждый из тех миров, границы которых, как ему кажется, он преодолевает, оказывается «подделкой», пустышкой, «звездной пылью», неким переходом в следующую форму того же мира, по-прежнему далекого от идиллии, к которой он так стремится. Все его «завоевания»: место первого ученика в классе, походы к проституткам, религиозное рвение, место в университете, - не восстанавливают былую идиллию.
Одним из таких «облаков звездной пыли» стала поездка героя с отцом в Корк. На короткое время город предков предстает воплощением идеального пространства, так похожего на Блэкрок. Все компоненты этого локуса: тепло, свет, яркие цвета, звуки и лето, - создают атмосферу легкой светлой радости, противопоставляя его угрюмому и грязному Дублину. Но не случайно здесь пролегает как временная, так и пространственная граница, отделяющая Вселенную, в которой господствовала патриархальная иерархическая система, от мира, в котором ее больше не существует. Для того маленького мальчика все было разделено по принципу простой бинарной системы, ясно и четко: люди жили простыми радостями, как дядя Чарльз, дом представлял собой твердыню, а отец был незыблемым авторитетом, связывавшим его с прошлым. Теперь же, после унизительной распродажи остатков родового имущества, во всей Вселенной не отыщется места, овеянного легендами их семьи, где горделивое имя Дедалов не будет забыто.
Границы в отношениях с людьми, особенно с теми, кто ему дорог, становятся для Стивена все более непреодолимыми. Не в силах превозмочь свои разногласия ни с возлюбленной, ни с семьей, ни с друзьями, он вытесняет их за границы своего локуса. Ни одна из выбранных им дорог не может привести, как бывало в его детском воображении, вслед за коровушкой Му-му к маленькому белому домику, увитому розами. Каждый раз, когда герой оказывается на перепутье, он делает выбор и преодолевает некую границу лишь для того, чтобы увидеть, что этот выбор был неверным и он вновь обманулся и уперся в следующую преграду.
На открывающих роман страницах, по точному замечанию Р. Рифа, «представлены все пять чувств: вид коровы Му-му и волосатого лица отца, звук рассказываемой истории, вкус лимонной конфеты, запах кле- енки и ощущение мокроты» [Ryf 1962, 14-15]. В начале последней, пятой главы описание также содержит эти характеристики: вкус и запах («Он осушил третью чашку водянистого чая до самой заварки и стал грызть корки поджаренного хлеба, валявшиеся на столе рядом с ним, уставившись в темную лужу на дне банки» [Joyce 1992, 188]), вид («Застывший желтый жир, оставшийся после жарки мяса, был выбран ложками, как впадина на болоте, а жидкость, скопившаяся на ее дне, оживила воспоминания о темной, торфяного цвета воде в ванной Клонгоуза» [Joyce 1992, 188]), осязание (волглая рубаха, которую мать кидает ему, являет собой полную противоположность мокрой клеенке, которую она когда-то ласково меняла), слух (свист отца и его вопрос о Стивене: «Эта ленивая сука, твой братец, убрался наконец?» [Joyce 1992, 189]), и подытоживающая общая атмосфера: в начале - Стивен является центром домашнего мира, в конце - все члены семьи пытаются избавиться от него. Возникающий в сознании героя темный образ колледжа Клонгоуз становится символом фальшивости всего окружающего его мира, отождествляя локусы дома и колледжа, которые теперь одинаково чужды и неприятны ему.
Брожения по Дублину выливаются в блуждания в пространстве собственной души, которая, то расширяясь, то сжимаясь, принимает различные образы необитаемого темного царства: сметающего все своими волнами океана, пустыни ночной Вселенной или выжженных безжизненных песков. Поездки, прогулки и другие перемещения создают впечатление достижимости некоего иного мира, который сможет стать лекарством для его души, заменив собой дом-идиллию.
Тема дороги в рай, на небо берет свое начало от четверостишия, написанного Стивеном во время пребывания в Клонгоузе:
«Стивен Дедал меня зовут, Ирландия - мой народ, Сегодня Клонгоуз мой приют, На небо дорога меня ведет» [Joyce 1992, 13].
Каждая строка проявляет свою многозначность на протяжении всего повествования, но особенно изменчивым оказывается значение последней строчки. В начале романа дорога на небо пролегала мимо домика Бетти Берн и по ней уходила в бесконечность коровушка Му-му, потом путь на небо, к истине представлялся мальчику как исполнение религиозных обрядов и совершенствование в христианских добродетелях. В конце повествования Искусство становится для Стивена не только царством красоты, но и средством упорядочивания мира. Соперничая с высшим Творцом, он стремится создать новую прекрасную Вселенную из безобразного хаоса, окружающего его. Воображаемая «дорога из роз ... вверх, до небес, вся усыпанная алыми цветами» [Joyce 1992, 241] медленно материализуется в первом поэтического произведении - вилланелле [(фр. Villanelle) - деревенская песня любовного характера, культивировавшаяся во Франции и Италии; характеризуется трехстрочной строфой, однообразной рифмовкой и рядом повторов]. Это ощущение прекрасного становится для него неким плащом, окутывающим его и защищающим от убожества физического пространства, через которое он прокладывает свой каждодневный путь. По мнению Д. Фортуны, «диалектическое путешествие-хождение Стивена является поиском в лабиринте мира - рая сердца (paradise of the heart)» [Fortuna 1972, 144], хотя точнее было бы сказать - рая искусства (paradise of the art). Размышления Джерома Бакли и Грегори Касла о неспособности персонажей модернистского романа воспитания достичь целей, традиционных для героев прежних времен, и обрести гармоничную целостность [Buckley 1974; Castle 2006], с полным основанием можно отнести к герою Джойса.
В сознании Стивена Дедала единственной возможностью приблизиться к заветному первоначальному пространству стало создание своей альтернативной Вселенной, мифической Тары, которая не будет наследовать былую идиллию, но позволит ему своей властью соединить мир реальный с воображаемым. По дороге в университет он накладывает стихи и прозу своих излюбленных произведений, как трафарет, на окружающий мир. Он проходит по Дублину, как по своему царству, ассоциируя его реальные улицы с фрагментами песен, поэзии и прозы: «Отягощенные дождем деревья, как всегда, вызвали воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана, и воспоминания об их туманных горестях и аромат, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренняя прогулка через весь город началась, и он заранее знал, что, шагая по илистой грязи квартала Фэрвью, он будет думать о суровой сребротканой прозе Ньюмена, а на Стрэнд-роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвидо Кавальканти и улыбнется; что у каменотесной мастерской Берда на Толбот-плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ибсена - дух своенравной юношеской красоты; а поравнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, он повторит про себя песню Бена Джонсона, начинающуюся словами: “Я отдохнуть прилег, хотя и не устал...”» [Джойс 1993, 366]. Не в силах восстановить родной дом как центр этого безграничного пространства, он разрушает последние границы, нивелируя в своем сознании прежний идиллический образ дома. Теперь, оставаясь центром в самом себе и стоя в полном одиночестве на вершине своих владений, которые он может строить или разрушать одною мыслью, герой волен вдоволь скитаться по их бескрайним просторам.
Список литературы Эволюция картины мира Стивена Дедала в романе Дж. Джойса "Портрет художника в юности"
- Акимов Э.Б. Поэтика раннего Джойса: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.05. М., 1996. 14 с.
- Антонова Е.Я. Пространство и время в ранней прозе Джеймса Джойса («Дублинцы» и «Портрет художника в юности»): автореф. дис... к. филол. н.: 10.01.05. СПб., 1999. 22 с.
- Влодавская И.А. Два портрета художников в юности. (Опыт сопоставительного анализа «Сыновей и любовников» Д.Г. Лоуренса и «Портрета художника в юности» Д. Джойса) // Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX-XX веков. Пермь: Пермский государственный университет, 1987. С. 33-55.
- Гениева Е.Ю. Джеймс Джойс (Предисловие) // Джойс Д. Дублинцы. M.: Известия, 1982. С. 7-38.
- Гениева Е.Ю., Кагарлицкий Ю.И. Литературная ситуация на рубеже веков: [Английская литература на рубеже XIX и XX веков] // История всемирной литературы: в 9 т. Т. 8. М.: Наука, 1994. С. 368-374.
- Джойс Дж. Портрет художника в юности // Джойс Дж. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. М.: Знаменитая книга, 1993. С. 203-445.
- Жилина Т.С. Семантика художественного пространства в романе Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.03 Калининград, 2008. 20 с.
- Курилов Д.О. Слово в романе Дж. Джойса «Портрет художника в юности»: автореф. дис... к. филол. н.: 10.01.03. Воронеж, 2004. 22 с.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. 384 с.
- Татару Л.В. Композиционный ритм художественного текста (на материале ранней прозы Джеймса Джойса): автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.02.04. М., 1993. 16 с.
- Удовиченко Е.М. Философия: конспект лекций и словарь терминов (элементарный курс). Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет, 2004. 200 с.
- Хоружий С.С. Поэтика Джойса: русские связи и соответствия // Российский литературоведческий журнал. 1993. № 1. С. 164-183.
- Beebe M. Ivory Towers and Sacred Founts: The Artist as Hero in Fiction from Goethe to Joyce. New York: New York University Press, 1964. 323 p.
- Buckley J.H. Season of Youth: the Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974. 336 p.
- Castle G. Reading The Modernist Bildungsroman. Gainesville: University Press of Florida, 2006. 340 p.
- Ellmann R. James Joyce. New York: Oxford University Press, 1959. 842 p.
- Fortuna D. The Labyrinth as a Controlling Image in Joyce's Portrait // Bulletin of the NY Public Library. 1972. № 76. P. 120-180.
- Ghent D.V On A Portrait of the Artist as a Young Man // Portraits of an Artist. A Casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man. New York: The Odyssey Press inc., 1962. P. 65-77.
- Johnson J. Joyce and feminism. The Cambridge Companion to James Joyce. Cambridge: CUP, 2004. 314 p.
- Joyce J. A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin Books, 1992. 329 p.
- Kain R. Dublin in the Age of William Butler Yeats and James Joyce. Norman, Okla.; University of Oklahoma Press, 1962. 216 p.
- Kain R., Scholes R. The Workshop of Daedalus: James Joyce and the Raw Materials for "A Portrait of the Artist as a Young Man". Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1965. 287 p.
- King K. A Key to His Consciousness: Smell in "A Portrait of the Artist as Young Man" // WR: Journal of the Arts & Sciences Writing Program. 2010-2011. Issue 3. URL: https://www.bu.edu/writingprogram/joumal/past-issues/issue-3/king/ (accessed 08.10.2021).
- Lanham J. The Genre of A Portrait of the Artist as a Young Man and "the rhythm of its structure" // Genre. 1977. Vol. 10. № 1. P. 77-102.
- Levin H. James Joyce: A Critical Introduction. Norfolk, Conn.: New Directions, 1960. 256 p.
- Mitchell B. A Portrait and the Bildungsroman tradition // Approaches to Joyce. Ten Essays / Staley T.F., Benstock B. (Eds). Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1976. P. 61-76.
- Ryf R.S. A New Approach to Joyce: The Portrait of the Artist as a Guidebook. Berkeley: University of California Press, 1962. 211 p.
- The Routledge history of literature in English. Britain and Ireland. London, New York: Routledge, 1997. 584 p.
- Tindall W.Y. A Reader's Guide to James Joyce. New York: Noonday Press, 1959. 304 p.