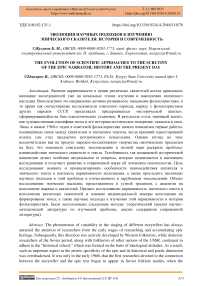Эволюция научных подходов к изучению эпического сказителя: история и современность
Автор: Жусупов Б.М.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Явление вариативности в пении различных сказителей всегда привлекало внимание исследователей уже на начальных этапах изучения и накопления эпического наследия. Впоследствии это направление активно развивалось западными фольклористами, в то время как отечественные исследователи советского периода, наряду с фольклористами других народов СССР, продолжали придерживаться «исторической школы», сформировавшейся на базе идеологических установок. В результате столь значимый аспект, как художественная специфика эпоса и его историко-поэтическое измерение, оказался в тени. Лишь в начале 1960-х годов в советской фольклористике начали появляться первые работы, посвящённые связи между сказителем и эпическим текстом, когда прежний односторонний подход сам стал предметом исторического осмысления. Однако взгляд на эпос исключительно как на продукт народно-коллективного творчества окончательно преодолен не был, что помешало советскому эпосоведению в полной мере раскрыть проблему взаимодействия эпического сказителя и текста. Устойчивость так называемой исторической концепции делает особенно актуальными те вопросы, которые поднимаются в настоящем исследовании и получают развитие в современной науке об эпическом сказительстве. Цель исследования: выявить и проанализировать особенности взаимодействия сказителя и эпического текста в контексте вариативности исполнения, а также проследить эволюцию научных подходов к этой проблеме в отечественном и зарубежном эпосоведении. Объект исследования: эпическое наследие, представленное в устной традиции, с акцентом на исполнение жыршы и сказителей. Предмет исследования: вариативность эпического текста в исполнении различных сказителей и влияние индивидуальной манеры исполнения на формирование эпоса; а также научные подходы к изучению этой вариативности в истории фольклористики. Были использованы следующие методы: теоретический (анализ научно- методической литературы по изучаемой проблеме, анализ содержания современной литературы).
Фольклорное творчество, эпическая поэзия, личность эпического сказителя, квалификация сказителей
Короткий адрес: https://sciup.org/14133827
IDR: 14133827 | УДК: 8.80.82-131.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/78
Текст научной статьи Эволюция научных подходов к изучению эпического сказителя: история и современность
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 8.80.82-131.1
Фактически система жанров эпической традиции –– жыр (сказание, эпическая песня), терме (назидание), толғау (раздумья), аңыз (предание), мысал (басня), арнау (посвящение), хикая (быль), хат-өлең (письмо-стихотворение) и различные виды лирики –– формирует репертуар исполнителя, а их взаимосвязь определяется единством стиля, музыкальной организации и личности жыршы [1, с. 83].
Когда исследователи приступили к изучению данного явления, они обратили внимание на то, что одна и та же эпическая поэма у разных сказителей звучит по-разному. В результате она может подвергаться трансформации, уточнению, развитию, обретать новые формы и смыслы. Поскольку термин «исполнитель» является калькой и не отражает специфики устной эпической традиции, в контексте жанров с элементами декламации и ритмичного речитатива предпочтительно использовать термин айтушы, а в случае эпического пения –– жыршы. Эти обозначения рассматриваются как содержательно более точные альтернативы. Исследование непрерывных изменений, происходящих в сказительском искусстве, получило развитие в начале ХХ века, когда эпосоведы начали анализировать конкретные тексты в контексте вариативности исполнения.
Начало 1930-х годов в советском эпосоведении ознаменовалось публикациями А. М. Астаховой, в которых были изложены первые результаты сравнительного анализа творчества сказителей русского Севера. На основе материалов фольклорной экспедиции, проведенной под ее руководством в 1928–1929 годах в районе Прионежья и Печоры, исследовательница предложила классификацию сказителей былин, опираясь на особенности восприятия и воспроизведения ими эпического текста. А. М. Астахова выделила три основные категории. К первой она отнесла сказителей, стремящихся к максимально точной, дословной или почти дословной передаче текста. Вторую группу составили исполнители, сохраняющие основную сюжетную канву былины, но при этом, используя типичные элементы и добавляя связующие эпизоды, формируют собственную устойчивую версию текста. К третьей категории — импровизаторам — относятся сказители, которые берут за основу лишь сюжетную схему, отказываясь от фиксированного текста. Каждый раз они пересоздают былину заново, варьируя ее с помощью различных эпизодов, мотивов, образов и знакомых им формульных выражений. Определяющим критерием для этой типологии, по мнению Астаховой, выступает поэтический стиль, унаследованный сказителями от их учителей [2, с. 71–82].
После завершения экспедиции, в ходе которой А. М. Астахова собрала материал для своей известной статьи «Былинное творчество северных крестьян», в 1933 году, а затем в 1934–1935 годах, профессор Гарвардского университета (США) Милмэн Пэрри организовал две крупные экспедиции в ряд югославских регионов — Боснию и Герцеговину, прилегающие районы Черногории и Южной Сербии. Целью его исследований было изучение особенностей «устного стиля» эпоса в условиях живой традиции. Помимо текстов эпических песен, экспедиция собрала ценные сведения о личности гусляров-исполнителей, условиях исполнения, особенностях манеры пения.
Одним из новаторских шагов М. Пэрри стало то, что он впервые в практике эпосоведения записал одну и ту же эпическую песню в исполнении одного и того же сказителя несколько раз в разное время, а также зафиксировал версии, исполненные учителем и учеником, и варианты одной и той же песни, переданной разными исполнителями. После неожиданной смерти Милмэна Пэрри в конце 1935 года его дело продолжил коллега и единомышленник — исследователь из Гарвардского университета Альберт Лорд. Он принимал участие в экспедиции 1934 года, а в 1937 году вновь посетил Югославию для сбора дополнительных материалов. Несколько страниц из начатого М. Пэрри в 1935 году исследования, подготовленного после возвращения из экспедиции, были опубликованы лишь в 1948 году как часть фундаментальной работы А. Б. Лорда, посвященной гомеровскому наследию [3, с. 34–44].
Следует отметить, что еще до американских исследователей в Югославии работали учёные, уделявшие внимание вопросам, связанным с личностями гусляров. К числу таких ученых относятся, например, Матиаш Мурко, автор фундаментальной монографии о южнославянских певцах, а также Г. Геземан и А. Шмаус, внесшие значительный вклад в изучение живых эпических традиций региона. А. Б. Лорд справедливо называет их своими предшественниками.
В книге «Вуковичи певачи» (Нови-Сад, 1981) В. Недич отмечает выдающегося фольклориста Вука Караджича как первого, кто открыл важную роль гусляров в создании, сохранении и передаче сербскохорватского эпоса из поколения в поколение. По мнению автора, В. Караджич не только фиксировал имена певцов, но и создавал их выразительные краткие портреты, а также высказывал значимые наблюдения о роли гусляров в традиционной поэзии, впервые выявив присутствие индивидуального творческого начала в искусстве сказительства.
Материалы, собранные М. Пэрри и А. Б. Лордом в Югославии, последний использовал в своей статье о наследии Гомера, впервые опубликованной в 1948 г., когда он сравнивал древнегреческий эпос и искусство гусляров [23, с. 113–124]. В том же году увидел свет объемный труд А. М. Астаховой по анализу текста и творчества севернорусских сказителей.
В 1948 году была опубликована статья выдающегося советского фольклориста В. И. Чичерова под названием «Сказители Онего-Каргопольщины и их былины», посвященная традиции сказывания былин на русском Севере [4, с. 32–65]. Эта работа, а также вышедшая двумя годами ранее статья «Эпическая традиция Кенозера и школа Сивцева-Поромского» [5, с. 74–76] стали основными главами кандидатской диссертации В. И. Чичерова, которую он защитил в Москве 30 июня 1941 года. Диссертация стала итогом многолетнего систематического изучения песенно-эпического фольклорного наследия русского Севера. В своей работе, долгое время оставшейся неопубликованной, автор обобщил материалы, собранные в ходе фольклорных экспедиций в Заонежье и другие северные регионы, организованных братьями Борисом и Юрием Соколовыми в 1926–1928 годах. В исследовании В. И. Чичеров заложил методологическую основу для реализации идеи А. Ф. Гильфердинга о необходимости более глубокого изучения творческой преемственности между сказителями былин. На этом основании в практике фольклористики была предпринята попытка типологизации творческих школ мастеров былинного сказительства.
Таким образом, впервые посредством сопоставления текстов были выявлены характерные особенности, свидетельствующие о творческой индивидуальности былинных сказителей, а также проанализирована взаимосвязь личного творчества исполнителей с народными и коллективными традициями.
1940-е годы стали важным этапом в истории фольклористики, ознаменовавшись появлением первых комплексных исследований, посвящённых сбору эпического наследия тюркских народов. В период с 1925 по 1932 год была организована фольклорная экспедиция в Саяно-Алтайский регион с целью собрать эпический материал у кумандинцев, хакасов, телеутов и шорцев. Одной из участниц этой экспедиции была молодая исследовательница Н. П. Дыренкова, которая подготовила первый научный сборник, посвященный устному словесному творчеству шорцев. Несмотря на то, что работа была подготовлена к изданию еще в 1935 году, она вышла в свет только в 1940-м. В процессе сбора и систематизации фольклорных материалов шорцев Н. П. Дыренкова впервые в истории исследований обратила особое внимание на личность кайчи — сказителя-исполнителя. Она отметила, что в шорском богатырском эпосе, например, путь героя во многом определяется настроением кайчи. Сказитель в зависимости от своего желания, настроения и реакции слушателей может либо сокращать поэму, опуская отдельные подробности и эпизоды, либо, напротив, расширять ее, добавляя детали, украшая рассказ образами и сравнениями [6].
Переосмысление роли личности сказителя в эпосоведении получило новый импульс в конце 1950-х годов, когда прежняя теория «исторической школы» утратила свое влияние. В этом контексте особое значение имеет статья фольклориста И. И. Толстого «Аэды. Античные творцы и носители древнего эпоса», опубликованная в 1958 году. В данной работе, посвящённой творчеству Гомера как наследию народной устной литературы, автор обращается к искусству эпического певца, доказывая, что греческие аэды не просто заучивали и декламировали услышанное, а вдохновенно исполняли произведения. По мнению Толстого, аэд усваивает общий канон эпического текста и строго следует его сюжету и эпической топике, в то время как отдельные образы и сцены в каждом исполнении воссоздаются заново в зависимости от мастерства певца. Таким образом, автор приходит к выводу, что поэмы Гомера могут быть результатом не только творчества одного гениального автора [7, с. 47].
В свое время попытку понять закономерности сказительского феномена предпринял М. О. Ауэзов — признанный знаток кыргызского эпоса и один из его первых исследователей. В своей статье «Сказители эпоса» он поднял ряд важных теоретических вопросов, уделив особое внимание феномену фабульной заимствованности, возникающей при передаче сказаний от одного исполнителя к другому. В этой связи М. О. Ауэзов подчеркивал, что несмотря на отдельные незначительные отличия, традиционный сюжет и каноническая поэтика остаются практически неизменными. Такое мнение противоречит взглядам В. В. Радлова, который утверждал изменчивую природу эпоса, в котором текст при исполнении жомокчу непрерывно меняется, не разрушая при этом целостность. Ауэзов опирался на уникальную особенность кыргызского эпоса, заключающуюся в том, что его прочный остов формируют несколько рядов модельно-шаблонных формул, которые вместе с традиционным сюжетом сохраняют композиционную целостность. Он был первым, кто разделил сказителей-манасчи на отдельные школы и отметил существенные различия между ними. Вместе с тем традиции этих школ не являются изолированными или разобщёнными — они взаимно передают и воспринимают варианты эпоса, сохраняя их характерные особенности. Поэтому в своей концепции ученый использовал такие понятия, как «фабульная зависимость», «общий каркас» и «взаимно приближенный канонический текст» [8, с. 16].
Монография А. Б. Лорда, которая быстро получила признание как классическая работа в современном эпосоведении, поставила перед ведущими фольклористами мира, а также советскими учеными, целый ряд фундаментальных вопросов: что представляет собой текст в сознании и опыте сказителя? Каким образом он усваивает эпические произведения и что хранит в памяти? Как трактовать акты исполнения — как простое пропевание или как творческое сказывание (рецитацию) заученных тысяч и даже десятков и сотен тысяч стихов? Чем могут отличаться различные исполнения одного и того же произведения одним и тем же певцом? Каковы границы вариативности текстов одного сказания, усвоенного несколькими сказителями от одного и того же источника? Подобный подход, который учитывает индивидуальную природу сказителя наряду с типологическими особенностями и общим происхождением эпоса, нашел свое отражение в сборнике трудов видного югославского слависта В. Недича, опубликованном почти одновременно с работами А. Б. Лорда (в период 1960–1971 годов). Эти исследования мастерски воссоздали образ гусляров, исполнявших когда-то юнацкие песни для Вука Караджича [24, с. 17].
П. Г. Богатырев, уделявший особое внимание художественным особенностям народного сказительства, рассматривал роль индивидуального творчества в рамках общего коллективного художественного метода. По его мнению, творцы и хранители фольклора действуют в пределах норм, принятых коллективом. В этом смысле коллектив требует от носителей народного словесного искусства соблюдения устоявшихся форм. Вместе с тем, творцы народной поэзии проявляют свою индивидуальность в рамках этих общепринятых фольклорных норм, строго следуя коллективным художественным закономерностям [9, с. 232–241].
Украинский фольклорист Б. П. Кирдан выделял в певческой традиции народных кобзарей особый тип — импровизатора, который не ограничивается заученным текстом, а изменяет его в зависимости от исторической ситуации, собственного мировоззрения, эстетических предпочтений и требований аудитории [10, с. 57–59].
Развивая свои идеи, выдвинутые три года ранее, П. Г. Богатырев подчеркивал, что при исполнении народного произведения, которое является коллективным творением, каждая его интерпретация становится новым творческим актом, и, следовательно, воспринимается как «новое» произведение. По словам ученого, «каждый раз при исполнении фольклорного текста исполнитель творчески изменяет его, причем эти изменения происходят совместно с соучаствующей аудиторией» [11, с. 65].
В 1966 году А. М. Астахова опубликовала итоги своих многолетних исследований русских былин в монографии «Былины: итоги и проблемы изучения». В ней особое значение имеет разработанная ею полная классификация категорий сказителей-импровизаторов [12, с. 18]. В тот же год выдающийся российский эпосовед Б. Н. Путилов представил первые результаты своей текстологической работы над былинными текстами. Он был одним из первых в советской фольклористике, кто записывал один и тот же текст у одного исполнителя несколько раз, что позволило ему глубже изучить и уточнить творческие приемы сказителя [13, с. 220–259].
Статья Рамона Менендеса Пидаля, в которой проводится сравнительный анализ проблемы югославских гусляров и устного эпоса в Западной Европе, представляет интерес благодаря глубокому рассмотрению взаимосвязи между индивидуальностью и традицией в искусстве эпического певца. Вместе с тем, в этой работе подвергается критике теория Пэрри-Лорда. Автор указывает на то, что ее создатели недооценили роль традиции в певческом мастерстве, а в некоторых случаях даже игнорировали ее, одновременно преувеличивая значение импровизации и умаляя значение эпической памяти. Р. Менендес Пидаль отмечал: «Пэрри и Лорд, ослепленные неожиданным блеском импровизации в Югославии, пренебрегли исполнением эпоса по памяти, подобно тому, как это делают Авдо и другие знаменитые мастера-импровизаторы» [14, с. 107].
В конце 1960-х годов была защищена первая кандидатская диссертация, посвященная творчеству манасчи. Ее автор, кыргызский фольклорист К. А. Рахматуллин, провёл всестороннее исследование личности жомокчу, сравнил варианты эпоса «Манас» в исполнении Сагимбая Оразбакова и Саякбая Каралаева, выявил особенности школы манасчи и проанализировал процесс обучения и исполнения эпоса в рамках этой школы. Особое внимание исследователь уделил вопросам творческого стиля сказителей. По его мнению, значительная разница между вариантами Сагимбая и Саякбая связана именно с различиями в художественных стилях исполнителей. К сожалению, ученому не удалось завершить анализ и осмысление всего массива эпической поэтики, собранного им в ходе работы [15, с. 75–147].
В 1968 году казахская фольклористка О. А. Нурмагамбетова также завершила первый этап своих исследований по изучению вариантов эпоса «Кобыланды-батыр» и разделению их на версии. Она сосредоточила внимание на проблеме жыршы, их певческих способностях и индивидуальных чертах [16, с. 19].
Украинские фольклористы также уделяли внимание феномену вариативности исполнения эпической песни одним и тем же сказителем. В статье Б. П. Кирдана на примере думы в исполнении кобзаря М. Кравченко подробно показан процесс вариативности, который проявляется в новой подаче образов, измененной концовке, смене сюжета и мотивов. Эта работа выделяется своей высокой точностью и вниманием к деталям [17, с. 42]. Данная работа Б. П. Кирдана была опубликована в научном сборнике, посвященном текстологическому анализу эпоса, где также была представлена статья известного эпосоведа В. М. Гацака — «Эпический певец и его текст». В своей работе В. М. Гацак опирался на сравнительный анализ одной эпической песни, которую, следуя примеру Б. Н. Путилова, записал несколько раз у одного исполнителя. Кроме того, он впервые применил новую методику исследования эпического текста — так называемый «синоптический» подход [18, с. 7–46].
-
Н. Ц. Биткеев, изучая калмыцких джангарчи в рамках своей кандидатской диссертации, предложил классификацию исполнителей на две категории: импровизаторов и неимпровизаторов. По его мнению, к первому типу относятся те, кто во время исполнения переходит от образа к фабуле, обогащая текст новыми сюжетными элементами, тогда как джангарчи второго типа сохраняют текст без изменений [19, с. 45].
В. М. Жирмунский на примере кыргызских манасчи продемонстрировал, что жыршы варьирует эпическую песню, при этом не выходя за рамки устоявшихся традиций. По его мнению, исполнитель не заучивает текст полностью, а усваивает сюжетную канву, последовательность эпизодов, типичные места и эпические формулы. Основную часть текста жыршы формирует непосредственно в ходе исполнения, варьируя его под влиянием аудитории, иногда добавляя собственные эпизоды и расширяя эпическое повествование. Этот импровизационный процесс, в котором используются готовые поэтические формы в рамках традиций, ученый назвал «новотворчеством» [20, с. 27].
В 1975 году в Москве вышло издание эпической поэмы «Кобыланды-батыр» на казахском и русском языках. Московский исследователь Н. В. Кидайш-Покровская и казахский учёный О. А. Нурмагамбетова, подготовившие этот первый двуязычный научный сборник казахского эпоса, во вступительной статье уделили внимание творческим истокам исполнительского искусства. Они отметили, что из 26 известных вариантов поэмы каждый сказитель исполняет её по-своему: одни читают заученный текст с незначительными изменениями, другие, обладая навыками импровизации, дополняют или сокращают традиционный текст. При этом характер изменений зависит главным образом от уровня аудитории. В заключении предполагалось, что именно это разнообразие исполнительских подходов могло стать причиной появления множества вариантов поэмы. Значительным новшеством сборника стал опубликованный в дополнительном разделе анализ отличий между вариантами [21, с. 16].
Б. Н. Путилов утверждал, что каким бы талантливым и многогранным ни был эпический певец, в конечном итоге его творчество и стиль будут отражать определённый типологический вариант, обусловленный природой певческого искусства. В связи с этим он предупреждал, что прежние подходы к изучению индивидуальных особенностей сказителя, его творческой биографии, манеры исполнения и отношения к тексту устарели и в значительной мере мешают решению более широких и глубоких задач в исследовании данного искусства.
Предложенная им нынешняя форма исследования должна состоять из следующих трех частей: запечатление в тексте искусства сказителя, эпического знания; аспекты исполнения: искусство и стиль повествования, музыкальное сопровождение, поведение сказителя во время исполнения, ритуально-имплицидный смысл пения, его сценическое значение, элементы профессионализма; процесс обучения сказителя: эпическая школа, воспитание, учителя, эпическая память и эпический текст и т.д. Изыскания должны проводиться на уровне исследований в организованных полевых условиях. Отдельные формы живой эпической традиции все еще существуют, однако они угасают день ото дня, и, если не взяться за решение этой проблемы сейчас, завтра может стать уже поздно. Однако проводить эту работу без соответствующей предварительной, тщательно разработанной и последовательно проводимой научной методологии весьма сложно [22, с. 23–27].
Интересно по своей логике определение классификации исполнителей по их отношению к текстам, сделанное К. Райхлом. Руководствуясь теоретическими выводами американских фольклористов М. Пэрри и А. Б. Лорда, исследователь, который побывал среди кыргызских жомокчу и воочию наблюдал за живой эпической традицией, отметил, что, как бы ни были непохожи друг на друга тюркские сказители-жыршы, в них прослеживается одна общая черта –– двойственность творческих (creative) и воспроизводящих (reproductive) певцов. Хотя понятие «творческий исполнитель» имеет в разных традициях свое значение и оттенки, нетрудно понять, что так часто называют исполнителя, который может создать «новую» эпическую песню, добавить от себя, а также изменить песню в соответствии с настроением публики. А вот категорию «воспроизводящих исполнителей» сложно описать одним словом. С одной стороны, они твердо придерживаются усвоенной и заученной ими формы. С другой стороны, хотя в тексте присутствует четкое и сильное ощущение стабильности, каждый раз при живом исполнении он трансформируется и исполняется иначе. И делает он это благодаря его доскональному знанию и владению различными методами и техниками исполнения. Согласно подходу жыршы к традиции, автор выделяет четыре грани сказывания: сохранение текста, его расширение, дополнение и трансформация.
Развитие эпосоведческих теорий позволило рассматривать исполнение не как механическое воспроизведение, а как творческий процесс, в котором индивидуальный стиль сказителя сочетается с коллективной традицией. Теоретические исследования М. О. Ауэзова, И. И. Толстого и других ученых подтвердили важность баланса между фиксированным текстом и импровизацией. Публикации и диссертации 1940–1970-х годов систематизировали типологии и выявили особенности школ сказительства в разных регионах. Современные исследования подчеркивают необходимость комплексного анализа текстов, исполнительского мастерства и обучения, что особенно актуально в условиях исчезающей устной традиции. Обобщая, можно сказать, что изучение эпоса становится междисциплинарным полем, объединяющим лингвистику, этнографию, фольклористику и музыку. Наконец, дальнейшее развитие методологии и полевые исследования крайне важны для сохранения и понимания богатства устного народного творчества.