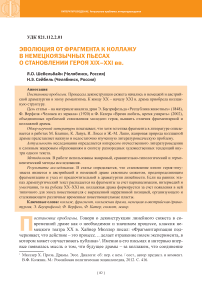Эволюция от фрагмента к коллажу в немецкоязычных пьесах о становлении героя XIX–XXI вв.
Автор: Я.О. Шебельбайн, Н.Э. Сейбель
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Актуальные проблемы литературоведения
Статья в выпуске: 2 (31), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Процессы деконструкции сюжета начались в немецкой и австрийской драматургии в эпоху романтизма. К концу ХХ – началу ХХI в. драма приобрела коллажную структуру. Цель статьи – на материале анализа драм Э. Бауэрнфельда «Республика животных» (1848), Ф. Верфеля «Человек из зеркала» (1920) и Ф. Катера «Время любить, время умирать» (2002), объединенных проблемой становления молодого героя, выявить отличия фрагментарной и коллажной драмы. Обзор научной литературы показывает, что хотя эстетика фрагмента в литературе описывается в работах М. Бланшо, К. Лавуа, И. Лиссе и Ж.-М. Лашо, жанровая природа коллажной драмы представляет важную и недостаточно изученную литературоведческую проблему. Актуальность исследования определяется интересом отечественного литературоведения к сложным жанровым образованиям и синтезу разнородных художественных тенденций внутри одного текста. Методология. В работе использованы жанровый, сравнительно-типологический и герменевтический методы исследования. Результаты исследования. В статье определяется, что становление юного героя-энтузиаста является в австрийской и немецкой драме сквозным сюжетом, предопределяющим фрагментацию и уход от предпочтительной в драматургии линейности. Если на ранних этапах драматургический текст распадается на фрагменты за счет карнавализации, интермедий и умолчания, то на рубеже XX–XXI вв. коллажная драма формируется за счет появления в ней типичного для эпоса повествователя с выраженной нарративной позицией, организующего и сталкивающего различные временные повествовательные пласты.
Коллаж, фрагмент, коллажная драма, немецкая и австрийская драматургия, Э. Бауэрнфельд, Ф. Верфель, Ф. Катер, сюжет, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/144163363
IDR: 144163363 | УДК: 821.112.2.01
Текст научной статьи Эволюция от фрагмента к коллажу в немецкоязычных пьесах о становлении героя XIX–XXI вв.
остановка проблемы. Говоря о деконструкции линейного сюжета в современной драме как о необходимом и значимом процессе, классик немецкого театра ХХ в. Хайнер Мюллер писал: «Фрагментаризация подчеркивает, что действие – это процесс… делает отражение полем эксперимента, в котором может соучаствовать публика»1. Именно в его письмах и интервью впервые появилась мысль о том, что будущее драмы – за коллажем, что соединение разнообразных по фабуле, хронотопу, форме и стилю сегментов в совокупности выстраивает перед зрителем наиболее полную картину современности. В то же время немецкий театр знал разрозненность и сегментированность еще в ХIХ в.: Ф. Раймунд «Расточитель» (1834), Г. Бюхнер «Войцек» (1837), Э. Бауэрнфельд «Республика животных» (1848). Сравнение фрагментарной драмы романтиков с тем, как эволюционировала фрагментарность в ХХ в., дает возможность показать специфические черты коллажной драмы в их становлении.
Цель статьи – выстроить логику преемственности авторов, обращающихся к проблеме становления личности, показывающих путь формирования характера и системы ценностей молодого героя, полного притязаний на славу, успех, желания переустроить мир. На материале анализа драм Эдуарда Бауэрнфельда «Республика животных» (Die Republik der Thiere, 1848), Франца Верфеля «Человек из зеркала. Магическая трилогия» (Spiegelmensch. Magische Trilogie, 1920) и Фрица Катера «Время любить, время умирать» (Zeit zu lieben zeit zu sterben, 2002) необходимо показать, как фрагментарность усложняется, превращаясь в коллаж.
Обзор научной литературы по проблеме. Важное место в исследования истории фрагмента и фрагментарности в литературных произведениях занимают работы М. Бланшо [Бланшо, 2003], К. Лавуа «Чтение фрагмента: литературный анализ и приемы» [Lavoie, 2008], И. Лиссе «Парадокс фрагмента» [Lisse, 2015], Ж.-М. Лашо «Коллаж/Монтаж» [Лашо, 1999]. Основное внимание исследователей сосредоточено на фрагментарности эпических текстов. Последовательно поднимаются вопросы происхождения фрагмента, специфики его построения, особенностей той картины мира, которую он формирует. Анализируется процесс «превращения в руины» большой повествовательной формы [Смирнова, 2021, с. 37] ради обновления вйдения мира и соотношение «эффекта первичности» линейного повествования с разрозненностью отрывков в их воздействии на читателя [De Vooght, Nemegeer, 2021, p. 362]. Обсуждаются проблемы завершенности/открытости (неполноты) смысла фрагмента, разрыв-ности/связности (цикличности) фрагментарного текста, диалогичности и диа-лектичности фрагмента.
Близость понятий «фрагментарный текст», «цикл», «монтажный» и «коллажный» текст требует комментариев тем больше, чем больше драма как литературный род сопротивляется прерывистости и непоследовательности, ориентируясь на «телеологическое единство… цели и результата» [Фрумкин, 2020, с. 50]. К драматургии термин «коллаж» достаточно долго применялся либо как авторская метафора (например, Г. Аполлинер использует его в отношении своей пьесы «Груди Терезия» в 1903 г.), либо как форма определения какого-то из элементов поэтики (сюжета, построения персонажа, использованных автором документальных источников и т.д.). Например, И.О. Чистюхин выделяет несколько видов композиций драмы, среди которых: «Коллажная – одна из наиболее сложных композиций, но и самых интересных» [Чистюхин, 2021, с. 87].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
Синтетизм, спонтанность, антииерархизм, «следы склейки» (нарочитое присутствие автора), перекодирование смыслов каждого фрагмента в контексте целого – те базовые свойства коллажа, которые описываются в исследовательской литературе.
Новизна статьи заключается в том, что теория коллажа применена к драме, рассматриваются фрагментарные пьесы в эволюции и становлении коллажной драмы, на основе использования жанрового, сравнительно-типологического и герменевтического методов исследования делаются выводы о специфике современной немецкой коллажной драмы.
Результаты исследования. Становление юного героя – одна из ведущих тем немецкой и немецкоязычной литературы, воплощающей «классическую педагогическую концепцию гармоничного, общегуманистического образования» [Selbmann, 1994, S. 11–12]. Entwicklungsroman, начиная с Гете, стал одним из ведущих жанров немецкой литературы, развиваясь в соприкосновении, отталкивании и отражении с родственным ему Bildungsroman’ном [Balmer, 2011]. Романтики и авторы бидермайера активно разрабатывают образовательный сюжет в эпосе (Л. Тик «Странствия Франца Штернбальда», А. Штифтер «Бабье лето», Г. Келлер «Зеленый Генрих»), экспрессионисты переносят его в драму, создавая так называемую Stationendram’у – драму пути, или драму состояний (Р. Зорге «Нищий», Г. Кайзер «Ад – Путь – Земля»). Пьесы Э. Бауэрнфельда «Республика животных», Ф. Верфеля «Человек из зеркала» и Ф. Катера «Время любить, время умирать» представляют три среза времени и три разных концепции человека, проходящего, однако, сходный путь в, что важнее для данного исследования, сходным образом организованной сценической реальности.
Перенося в драматургию сюжет романа воспитания, авторы неизбежно переносят и его фрагментарность: путь становления героя – это путь столкновения с различными людьми и событиями, получения опыта в разнообразных ситуациях, встреч и расставаний. Соответственно, сюжет «воспитания» складывается из множества разрозненных отрывков, объединенных фигурой героя и теми изменениями, которые формируют его личность.
В анализируемых пьесах возникает «классический репертуар» воспитательного сюжета. Выбор между призванием поэта и служением революции связывает пьесу Бауэрнфельда с традицией романов Гете, Тика и Новалиса. Конфликт с отцом, предательство в любви, испытание славой проходит герой в драме Верфеля. Потеря друга, опыт первой влюбленности, крушение юношеских надежд – узнаваемые этапы взросления в драматургическом коллаже Катера.
Перенесение центра внимания с поворотного события на нравственно-аксиологическую трансформацию героя под воздействием меняющейся вокруг него ситуации приводит к тому, что герой и эпоха начинают занимать в драматургическом тексте равное место. Драма теряет центростремительность и становится текстом о времени, о нравах, об историческом моменте.
Так, пьеса Э. Бауэрнфельда «Республика животных» представляет собой животную аллегорию, в 15 сценах-фрагментах, отражающую революцию 1848 г., гибель и реставрацию старого мира. Драматическая притча «Человек из зеркала» Ф. Верфеля – концентрат впечатлений автора 1915–1920 гг.: Восточный фронт Первой мировой войны, революционные беспорядки в Вене (1918), разочарование и крушение надежд – состоит из трех частей, каждая из которых, в свою очередь, тоже фрагментарна («Зеркало», «Одно за другое», «Окно»), и эпилога. Коллаж Катера – попытка подвести итоги объединения Германии в трех состоящих из фрагментов частях (29 фрагментов пьесы «Юность/хор», 19 сцен пьесы «Старый фильм/группа» и примерно 20 не разграниченных автором сцен пьесы «Одна любовь – два человека»).
Уникальность драматургической «распадающейся» структуры проявляется в том, что умолчание уравнивает в значимости сценические и внесценические события и дает возможность «развернуть» сюжет относительно не одного, а нескольких героев. Таким образом, существенно возрастает роль режиссера, театр получает значительную свободу трактовки.
Например, система разрывов и умолчаний в «Республике животных» позволяет прочитать пьесу Бауэрнфельда как, во-первых, историю предательства революции, выводя на первый план аристократа-Лиса, продавшего Родину иностранным захватчикам и приведшего войска Дракона, или революционера-Бульдога, стремящегося к единоличному правлению вместо парламента. Они выступают двойниками. Оба несут идею насилия. Через них автор «выражает, среди прочего, свои опасения, что народное недовольство может даже перерасти в разгул анархии или… опасное господство террора» [Lajarrige, 2008, S. 162]; (перевод наш. – Я.Ш., Н.С. )]. Во-вторых, как отражение гибели старого мира в лице Льва, усыпленного в начале пьесы благостными докладами. Спустя сцену зритель видит его уже в народном собрании, где ему выносят смертельный приговор, а затем наблюдает грусть фермеров, хоронящих своего короля «ohne Sang und Klang zu Grabe»2 («без песнопений и колоколов – в могилу»; перевод наш. – Я.Ш. , Н.С. ). Разрозненные фрагменты показывают зрителю лишь отрывки истории, на сцене герой проживает моменты максимальной опасности, напряжения или удивления. Наконец, в-третьих, пьеса рассказывает историю Соловья – энтузиаста-мечтателя, наделенного талантом, самоотверженностью. Судьбы Льва и Соловья в равной мере показывают, насколько трагической считает автор фигуру правителя, оказавшегося в центре народного волнения.
Однако именно сюжет формирования характера Соловья выражен наиболее последовательно. Герой проходит через отречение: от стихов, от желания власти и славы. Он пытается отстаивать справедливые и гуманные законы (его первый указ – отме на смертной казни – не был отправлен секретарем в типографию).
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
Он становится оратором и мастером манифестов, а пав жертвой интриг, гордо восходит на гильотину.
Его потрясает спор с королем о том, что важнее: быть властителем или быть гражданином. Соловья впечатляют уверенность Льва, его осознание долга перед страной и народом, ощущение связи с мировым порядком и гармонией. Он получает грандиозный опыт, усмирив народное волнение, и гордо заявляет о сути того, чему служил:
Doch reut mich nicht der Traum, der holde Wahn,
Ein Vorbild gab ich deß, was kommen werde;
Die Zeit ist noch nicht da, allein im Nah‘n,
Wo sich zum Paradies verklart die Erde3.
(Но я не пожалею о мечте, о прекрасном заблуждении: будет время, и я стану примером для других, и Земля превратится в рай; перевод наш. – Я.Ш. , Н.С. ). Так из фрагментов складывается картина становления характера героя, воплощающего свое время: талантливого, самоотверженного, вдохновенного.
Стратегия «расщепления» драматического единства на сцены у Бауэрнфельда базируется на двух основных приемах: умолчании (в строении сюжета) и удвоении (в системе образов). Неритмическое чередование отрывочных сцен из разных сюжетных линий обеспечивает непредсказуемость происходящего. В результате читатель (и зритель) получает достаточно пеструю картину революционной Австрии, на фоне которой явно продолжающий романтические традиции герой постепенно осознает, что движение страны к будущему важнее его жизни. Мир, балансирующий в течение пьесы на грани комического и трагического, подходит к критической точке катастрофы лишь в финале.
Пьеса Франца Верфеля «Человек из зеркала» построена на мотиве преображения и перерождения Тамала. В первой части он хочет принять постриг, чтобы преодолеть греховность собственных помыслов, но поддается искушению и возвращается в мир. Во второй - описывается его грехопадение, побеждает гордыня, но он ощущает себя спасителем города Эдипом, вершителем судеб Моисеем. В последней части он осознает тяжесть своего греха, раскаивается и перерождается. Душа Тамала – объект спора Добра и Зла, Монахов-отшельников и демонического Человека из зеркала [Волокитина, 2014, с. 20]: «Du gleichst darin den beruhmtesten Betern, / Vor allem Mose»4 («Ты похож на пророков великих / На Моисея»5). В то же время не менее важным персонажем становится монах, организующий на протяжении всех эпизодов испытание за испытанием. Монахи намеренно оставляют занавешенное зеркало в келье и, когда охваченный мелочностью и любопытством Тамал выпускает своего темного двойника, появляющийся под разными личинами Монах ведет и направляет героя от одного испытания к другому. Он становится своего рода «человеком театра», моделируя и организуя для зрителя игровую действительность, воспринимаемую героем «всерьез», но очевидно карнавальную, масочную, гротескную в глазах публики. Собственно, все герои трилогии, кроме Тамала, носят маски, обезличивающие людей в толпе (будь то религиозные фанатики-обожатели Тамала или журналисты и писатели, воплощающие суету и бездуховность), уравнивающие «дьявольское» и обывательски-повседневное. Какофония карнавала сопрягается в пьесе с социальной сатирой, маски часто разговаривают штампами и лозунгами, концентрирующими в себе весь абсурд современности.
Тамал и Монах - носители разной системы ценностей. Первый горит желанием подвига. Его не удовлетворяет свершение добра – ему нужно перевернуть и переустроить мир. Он стремится к мессианству, к славе: «Ah! Werk und Ruhm, / Die beiden höchsten orte des Lebens»6 («О! слава и труд! Два высшие в жизни слова!»7). Второй воплощает идеал покоя, связи с мирозданием, преодоления тех тщеславных надежд, которые мешают обрести мудрость не через отречение, а через овладение опытом, познание, наблюдение над жизнью. Он уверен, что нужно «Nicht es vermeiden, Sohn, nein es zerleben !»8 («изжить, а не бежать от искушенья»9).; ).
В результате у Верфеля сталкиваются не только два героя, у каждого из которых свои задачи и мотивы, сталкиваются два стилистических регистра: притчевый (история Тамала) и игровой (монаха-наблюдателя).
Умолчание у Верфеля не менее значимо, чем в «Республике животных», и организует композицию: смерть отца, судьба Амфэ и многие другие значительные события «уведены» во внесценическое пространство. Удвоение используется не только, как у Бауэрфельда, на уровне системы образов, но и в сюжете. В образной системе, например, двойниками становятся, во-первых, Тамал и Шпигельменш, отношения между которыми меняются в течение пьесы от отражения и взаимодополнения к антагонизму: «Подобно тому, как Зазеркалье - это странная модель обыденного мира, двойник – остраненное отражение персонажа» [Лотман, 2001, с. 69]. Начав сопротивляться Человеку из зеркала, Тамал осознает свою зависимость от темного покровителя настолько, что они оказываются физически связаны и болезненное увядание Тамала сопровождается увеличением роста и объема двойника. Другое отражение: Тамал и Джалифар. Оба – возлюбленные Амфэ, оба в конечном итоге приходят к смирению. Еще важнее – повторяющиеся ситуации, показывающие эволюцию героя: предательство и прощение друга, две встречи с возлюбленной, воспоминания об отце.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
Усложняет структуру фрагментарного текста Верфель за счет соединения реальности и сна, достойных варьете комических фрагментов и столкновения героя с инобытием. С одной стороны, в пьесе появляются «парады масок», такие как хор поклонников, воспевающий Тамала, или танцы с фонарем-«Луной» Человека из зеркала, создающего «романтическую» атмосферу для объяснения Тамала и Амфэ. С другой – духовное становление героя дается в характеристиках, связанных со смертью: его волшебная страна и по названию, и по сути напоминает Шамбалу, уверенный в том, что он умер и возродился, герой Верфеля попадает в абстрактное «инобытие», называемое монахами «новой жизнью».
Несмотря на яркую экспериментальность фрагментарной формы, пьесы романтизма и экспрессионизма сохраняют – пусть в разорванном виде – линейный драматический сюжет и разворачиваются в упорядоченной хронологии событий. Коллажная пьеса конца ХХ – начала XXI в. нарочито разрушает этот порядок, играя временными пластами, последовательностью событий, различными ракурсами и точками зрения. Если драматическое «действие можно и нужно видеть (а эпос действие не показывает, но лишь описывает его)» [Красногоров, 2023, с. 58], то коллажная драма активно обращается к фигуре рассказчика, погружая зрителя в хаос воспоминаний.
Яркий пример – пьеса Фрица Катера «Время любить время умирать», состоящая из трех частей. Первая часть пьесы – « Юность/хор » – представляет собой коллективный монолог школьников-выпускников Вольфа, Ханса и рассказчика: неудачи в любви и попытках «взрослой» жизни, первая встреча со смертью, с предательством и расставание когда-то неразлучной компании. Вторая часть – «Старый фильм/группа» – фрагменты из встреч и расставаний трех поколений, вовлеченных в любовные треугольники, где история отцов повторяется в истории детей. Третья часть – «Одна любовь – два человека» – рассказ повзрослевшего сына о трагедии отца, неспособного разорвать ни любовную связь с молодой иностранкой, ни семейный союз. Исследователи Д. Капуста и Кр. Кляйн определяют пьесу как бессюжетную [Kapusta, 2011, S. 147; Klein, 2015, S. 76]. Однако из эпизода в эпизод через призму разных персонажей отражается и варьируется история об ошибках отцов, повторяющихся в судьбах детей, о неизжитой вине и безответственности взрослых, отраженной в страхах и неудачах юношества.
Формирование молодых героев происходит через преодоление поколенческой травмы, через болезненное примирение с чувством собственной сопричастности едва ли не ко всей истории мира: отсюда обширный интертекст, существенно усложняющий драматическую структуру (мифология, Адам и Моисей, средневековая и романтическая литература, Ремарк и Джимми Дин). Разрозненные эпизоды скреплены сквозными мотивами: поражения/аутсайдерства, предательства и животного бессилия в неосознанной борьбе за счастье, отречения и преодоления. «Скрепление» эпизодов происходит и за счет «следов» рамочной композиции в каждой из пьес. Так, в начале и в конце первой пьесы повторяются дождь, музыка, ситуации «герой в толпе» (среди футбольных фанатов – в начале и среди призывников - в конце), «мечты о звездах» (звучит песня о звездах, и герой вспоминает греческие мифы, давшие имена космическим телам). Особую роль играет также музыка, которая активно вмешивается в происходящее и восполняет содержательные и эмоциональные «лакуны»: от истерического «врубил музыку на полную катушку… несся по школе через все коридоры и аудитории, срывая со стен все изображения»10 до опустошающего: «Без монтажа. Без музыки»11.
Новый герой воплощает новое время: теперь это «пораженцы», уверовавшие в несчастье своей судьбы. Мир – от семьи до государства – рушится на их глазах, и, отчаявшись найти в нем опору, они становятся фаталистами, участвуют в рискованных авантюрах, притворяются сильными и взрослыми.
Каждая сцена коллажной пьесы обладает своей внутренней полнотой и законченностью. Структурно они организуются в систему отражений, смысловых и сюжетных вариаций, трагических и комических повторов, но каждая сцена обладает независимостью.
Повествовательное время становится в коллаже полем эксперимента. Если в первой пьесе хронологический охват – два года и, при частой «перепутанности» сцен, события все же движутся от начала (1980) к концу (1982), то уже вторая включает события от двадцатипятилетия Манфреда (1965) до двадцатипятилетия его сына Ральфа (1986), щедро сдобренные ретроспекциями, воспоминаниями, снами и т.д. Героем окончательно становится не человек, а эпоха. Внимание автора обращено к тому, как обесчеловечивается и механизируется мир, как человек в нем теряется, осознает свою слабость и ненужность.
Заключение . В силу своей природы драма является экспериментальным жанром, находящимся в процессе постоянного становления и изменения, неустанно ищущим и трансформирующим формы взаимоотношений литературы и театра. Фрагментаризация драматургического текста является одним из направлений подобного поиска. Если на ранних этапах фрагментарная пьеса строится на соединении трагического и комического, психологического и гротескного, то современный коллаж тяготеет к трагическому и мелодраматическому. Абсурдизация мира заключается в самой множественности сходных, контрастных, рядоположных, вступающих в отношения параллелизма сцен и не сопряжена с комикой. Традиционно драматургический текст распадается на фрагменты за счет карнавализа-ции, вставных интермедий, умолчания и удвоения. Примеры тому мы находим в пьесах XIX в. (Граабе, Бауэнфельд, Раймунд, отчасти Г. Бюхнер). В дальнейшем усложнение происходит за счет соединения повседневного и онейрическо-го, рационального и мистического. А на рубеже XX–XXI вв. в коллажной драме
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 2 (31)
соединяются собственно драматические (действенно-событийные) фрагменты с эпически повествовательными и описательными, появляется типичная для эпоса фигура повествователя с выраженной нарративной позицией, возникают дневниковые, эпистолярные и другие фрагменты. Разрушение временной линейности и последовательности также способствует усложнению драматургического коллажа, организующего и сталкивающего различные временные повествовательные пласты. Таким образом, фрагментаризация в драме проходит в XIX–XXI вв. сложный путь эволюции.