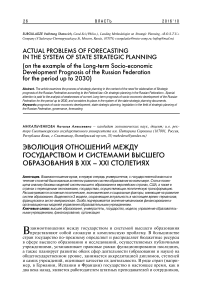Эволюция отношений между государством и системами высшего образования в XIX - XXI столетиях
Автор: Михальченкова Наталья Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Взаимоотношения вузов, в первую очередь университетов, с государственной властью в течение столетий были важным аспектом развития систем образования во всем мире. Статья посвящена анализу базовых моделей систем высшего образования в европейских странах, США, а также в странах с переходными экономиками, государствах, осуществляющих политическую трансформацию. Рассматриваются основные политические, экономические и социальные факторы, влияющие на развитие систем образования. Выделяются 3 модели, сохраняющие актуальность в настоящее время: германская, французская и англо-американская. Особо подчеркивается значение механизмов финансирования и организационных моделей управления образовательными учреждениями.
Высшее образование, университеты, государство, модели, управление образовательными учреждениями, финансирование, организация
Короткий адрес: https://sciup.org/170168179
IDR: 170168179
Текст научной статьи Эволюция отношений между государством и системами высшего образования в XIX - XXI столетиях
Взаимоотношения между государством и системой высшего образования представляют собой сложную и комплексную проблему. В большинстве стран государство по-прежнему определяет и распределяет бюджетные ресурсы в сфере высшего образования и исследований, осуществляемых публичными учреждениями, устанавливает правовые рамки функционирования последних, а также планирует развитие обеих сфер деятельности (образования и науки) на общегосударственном уровне, занимается аккредитацией дипломов, степеней и самих учреждений, оценивает качество их деятельности. В ряде стран (например, в Германии, Испании и Франции) государство в настоящее время, как и два века назад, является работодателем штатных преподавателей и сотрудников, хотя в большинстве случаев эта функция передана самим учреждениям высшего образования.
При этом проблема не сводится только к государственной политике в сфере высшего образования и науки. Она включает также аспекты, связанные с определением характера взаимоотношений между образованием и наукой, а также места и роли обеих сфер в высокодифференцированном современном обществе. Социология образования представляет собой отдельную комплексную отрасль современных исследований, в рамках которой работали многие известные ученые XX столетия [Luhmann 1980; Parsons 1968; Хабермас 1994].
Уже в XIX в. была создана модель германского университета, способного воспринимать результаты научных исследований и продвигать их, которая в дальнейшем в той или иной степени нашла применение в большинстве высокоразвитых стран. На продвинутом этапе формирование учебного материала превращается во включение учебного процесса в процесс исследовательской работы. Данный процесс может осуществляться в более структурированной форме в рамках бакалаврских программ или в более свободном варианте – в процессе подготовки ученых после получения университетского диплома.
Исследуя вышеописанную проблему, венгерский ученый Б. Покол ставит чрезвычайно важный для современных условий вопрос: «Каким образом система оценки способна включать такой измеритель, как экономическая рентабельность научных исследований?» Ответ на этот вопрос ученый предпочитает искать в деятельности университетов США, хотя признает взаимосвязь типичной для них модели с характеристиками германского исследовательского университета. Американские университеты зависят в первую очередь от числа студентов, стремящихся в них учиться (от их платы за обучение, а также от субвенций государства, выделяемых в зависимости от числа обучаемых) [Pokol 2001: 134-340]. Соответственно, ректор университета (в данном контексте он становится менеджером) ориентируется в первую очередь на экономическую рациональность, для повышения которой стремится также привлечь в университет профессоров, наиболее высоко оцениваемых с точки зрения научной рациональности (звания, степени, индексы цитирования и т.п.), предоставляя им максимально благоприятные финансовые, материальные и иные условия. Профессора, в свою очередь, привлекают в университет наиболее способных, подготовленных и заинтересованных студентов.
В германских университетах ситуация выглядит по-другому [Pokol 2001: 145158]. Начиная с послевоенного периода, государство практически полностью принимает на себя финансирование университетов, а студенты учатся за символическую плату. При этом конкуренция между университетами в Германии существенно выше по ряду причин, среди которых нужно выделить большое число университетов, приверженных историческим традициям, учитывая 40-летний период разделения Германии на два государства. Такая децентрализованная модель радикально отличается от жестко централизованной французской (с центром в Париже), от британской модели, ориентированной практически на два центра – Оксфорд и Кембридж, не говоря уже о сконцентрированных в столичных городах моделях стран Восточной и Центральной Европы. Не избежала такой «центричности» и Россия: в многочисленных рейтингах можно встретить практически только МГУ им. Ломоносова, и то не на первых позициях, и еще реже – СПбГУ1.
Правда, государственное финансирование неизбежно ведет к утрате рынка университетов как одного из механизмов самоорганизации университетского сообщества. При утрате экономического механизма в дело вступает политический регулятор, руководствующийся абсолютно иными критериями отбора. Хотя конкуренция не исчезает полностью и стимулирует руководство университетов к привлечению известных ученых для работы, личные, конъюнктурные и политические соображения играют все большую роль при решении кадровых вопросов [Pokol 2001: 160-165].
Значительный интерес представляет эволюция американского университета, использовавшего германский опыт, однако переработавшего и существенно изменившего модель, сложившуюся в XIX столетии. По мнению Б. Покола, главными отличиями американских университетов, быстро развивавшихся на рубеже XIX и XX вв., были следующие. Во-первых, были ликвидированы кафедры, являвшиеся ранее высшим иерархическим звеном университетской власти. Вместо них создавались «департаменты», обладающие более широкими функциями и полномочиями: их руководители выполняли и выполняют административные функции. Внутри департаментов преподаватели работают как равноправные и самостоятельные специалисты. С помощью департаментов было разрушено феодальное господство заведующих кафедрами, и в университеты была встроена конкуренция, основанная на равноправии1.
Вторым кардинальным отличием американского университета, тесно связанным с уже упомянутым, стала специфическая организация подготовки научных кадров путем усиления роли в этом процессе научных обществ и других организаций, а также научных изданий. Их редакционные коллегии проводят отбор статей и монографий для публикации, формируя определенные представления о необходимом уровне научной квалификации ученых независимо от их возраста, имеющихся у них заслуг, что играет немалую роль в европейских университетах даже в настоящее время.
Нельзя также забывать об отличиях системы финансирования европейских и американских университетов. В первом случае средства поступают в вузы непосредственно из государственных бюджетов, во втором – субсидируются в основном студенты, а университеты получают деньги непосредственно от них в виде платы за обучение. Не вызывает сомнений, что обе модели функционируют по-разному, создавая конкурентные преимущества тем университетам, которые максимально отражают потребности различных общественных подсистем, сдвиги границ между ними, а также появление новых направлений научных исследований и ранее не известных прикладных проблем. Во многом успех американской университетской модели базируется, соответственно, на невиданном ранее уникальном рынке интеллектуальных продуктов, который непосредственно транслирует университетам общественные интересы и потребности.
В качестве итога анализа принципиальных особенностей организации университетской и научной подсистем современного общества имеет смысл привести четыре варианта организационных принципов, выделенных в работе Т. Парсонса и его коллег [Parsons, Platt 1973]:
– иерархию, в которой во главе университета стоит ректор, ему подчиняются деканы и заведующие кафедрами, являющиеся руководителями преподавателей, в свою очередь осуществляющих управление деятельностью студентов;
– рынок, в рамках которого студент рассматривает преподавателя в качестве продавца, предоставляющего студенту за его деньги (плата за обучение) определенный объем знаний;
– университет, функционирующий как демократическое объединение, в котором различные слои и группы студентов и избранные представители студентов и преподавателей обладают равными избирательными правами, а также имеют право активно включаться в решение вопросов, касающихся функционирования университета: выбор учебных дисциплин, назначение преподавателей и др.;
– институциональный индивидуализм, в рамках которого отдельный преподаватель автономен по отношению к руководству университета и студентам, но с точки зрения направлений его исследований находится под контролем научного сообщества в составе отрасли науки, которую он представляет.
С точки зрения Парсонса, европейский университет скорее стремится к третьей, демократической модели, а американский – реализует четвертую, хотя в ряде случаев студенты относятся к преподавателю как к продавцу. Не вызывает, однако, сомнения, что элементы иерархии сохраняются в европейских университетах, усиливаясь в связи с широким государственным финансированием. В то же время можно отметить, что конвергенция организационных моделей, выделенных Парсонсом в прошлом столетии, также имеет место.
В научной литературе выделяют также несколько идеально-типических моделей взаимоотношений между системой высшего образования и государством [Ash 2006]. В последние десятилетия происходит конвергенция исторически сложившихся отношений, связанная с экономическими, политическими, социальными изменениями, происходящими в современном глобализирующемся мире. Одним из факторов, оказывающих сильное влияние на этот процесс, является подписание в 1999 г. Болонской декларации, среди целей которой – унификация основных принципов организации систем высшего образования во всех подписавших документ странах.
Прежде всего, как указывают многие исследователи [Jüttemeie 2016], взаимоотношения между системой высшего образования и государством определяются степенью автономии, которой обладают университеты в своей постоянной деятельности: обучении, исследованиях, внешних связях и т.п. На этом уровне анализа выявляется континуум от централизованной модели «сверху – вниз», в которой ведущую роль играет государственное регулирование, до децентрализованной модели «снизу – вверх», где университет является главным субъектом принятия решений.
В специальном исследовании европейских ученых [Le Feuvre, Metso 2005] был проанализирован уровень централизации/децентрализации в 8 европейских странах, являющихся участниками Болонского соглашения: Франции, Испании, Финляндии, Германии, Венгрии, Швеции, Норвегии, Великобритании. В ходе анализа было выявлено, что наиболее централизованным является регулирование во Франции и Испании, интересы сторон максимально согласовываются в Германии, Финляндии, Венгрии и Швеции [Le Feuvre, Metso 2005: 7] и, наконец, в децентрализованном режиме регулирование происходит в Норвегии и Великобритании, где большинство решений принимаются самими университетами.
При этом даже в первой модели, несмотря на ведущую роль государства, академическое сообщество не является полностью зависимым и подчиненным, а регулирование происходит путем определения состава преподаваемых дисциплин, которое осуществляется государственными структурами и отражает государственную политику в сфере высшего образования.
В процессе исторического развития системы высшего образования в разных странах эволюционировали в рамках 3 основных моделей, которые ранее были определены нами с точки зрения централизации/децентрализации, однако имеют в истории высшего образования привязку к определенным историческим периодам, конкретным системам и достаточно определенным характеристикам ряда параметров.
Первой из моделей является германская, а точнее, прусская модель, которую относят обычно к первым десятилетиям XIX столетия и связывают с именем выдающего ученого, создателя Берлинского университета Вильгельма фон Гумбольдта. Вторая типическая модель, формировавшаяся в тот же период во Франции, именуется наполеоновской. Третья модель, как и следовало ожидать, максимально автономная от государства, получила развитие в США, где республиканская форма правления, высокий уровень индивидуализма и коммерческой активности нашли отражение и в сфере высшего образования.
Идеи Гумбольдта включали академические свободы в определении содержания образования, методов осуществления образовательной деятельности, предмете исследований и выводах по его результатам, а также в соединении в рамках одного университета научных исследований и обучения по всем существовавшим тогда дисциплинам, т.е. создание междисциплинарных исследовательских университетов. Предполагалось полное государственное финансирование всех видов университетской деятельности – образовательной и исследовательской. Академические свободы должны были быть гарантированы государством (в финансовом и законодательном отношении), что в 1949 г. повлекло за собой включение данных гарантий в Основной закон ФРГ1.
В определенном смысле противоположностью прусской модели является так называемая наполеоновская модель, полностью изменившая после 1808 г. режим функционирования французских университетов, обладавших широкой автономией на протяжении столетий, получивших еще большую свободу в интеллектуальной сфере после Великой французской буржуазной революции и утративших ее вследствие реформ, проведенных Наполеоном [Palmer 1986]. Государство поставило высшее образование под жесткий контроль Имперского университета – специально созданной для этого организации, превратив университеты в чисто академические структуры и передав все функции по подготовке политической и административной элиты специальным образовательным учреждениям (одним из наиболее известных является Ecole Nationale de l’Administration , где осуществляется подготовка государственных чиновников высокого уровня). В данной модели жесткий контроль государства осуществляется как над функционированием университетов, так и над набором дисциплин и их распределением между отдельными учреждениями, т.е. централизация носит двойной характер. Кроме того, университеты не имеют монополии в сфере высшего образования и исследований, т.к. параллельно с ними существуют другие учреждения, получающие финансирование из публичных бюджетов.
Максимальными отличиями от прусской и от наполеоновской моделей обладает англо-американская модель, в которой университеты рассматриваются как интегрированные центры образования и исследований, призванные отвечать на потребности экономики и общества, в то время как в прусской модели их деятельность ориентирована в большей степени на интеллектуальные потребности самого академического сообщества, а в наполеоновской – на требования и политические цели государства.
В XXI в. влияние классических моделей в значительной степени сохраняется, однако можно выделить целый ряд процессов, свидетельствующих о постепенном отходе систем высшего образования от того или иного варианта. Так, в Германии прослеживаются признаки постепенной утраты университетами их самостоятельности в вопросах определения содержания образования и набора учебных дисциплин. Данная компетенция во все большей степени переходит к землям (субъектам федерации), которые несут основную ответственность за функционирование и развитие системы высшего образования на своей территории. Один из авторов работы «Белая книга образования. За динамичную Германию» К. Ларсен уже в 2004 г. подчеркивал отставание германской системы высшего образования от систем других стран, в частности США [Larsen 2004]. Однако прямое заимствование иностранных подходов вряд ли может быстро улучшить ситуацию. Ларсен обращал внимание на необходимость развития не только крупных элитных университетов, но и относительно небольших учреждений, главным преимуществом которых является возможность более индивидуализированного подхода к каждому студенту, что особенно важно на первом (бакалаврском) этапе получения высшего образования. Как следствие дискуссии, многие параметры деятельности германских университетов были изменены в 2007 г. в результате принятия закона о высшем образовании, который относится к категории рамочных1.
В настоящее время важен опыт становления университетов, которые все чаще называют исследовательскими (предполагается, что они также проводят интенсивные актуальные научные исследования), в государствах, находящихся с этой точки зрения на начальных этапах развития. Их путь к «совершенству» дает богатый материал для анализа основных факторов, влияющих на развитие систем высшего образования в разных регионах планеты. Одним из наиболее успешных и выдающихся примеров является быстрое вхождение китайских вузов в число ведущих образовательных учреждений мира. В 2003 г. только 14 университетов Китая входили в число 500 ведущих образовательных учреждений мира, в Шанхайском рейтинге 2015 г. представлены 44 китайских вуза (включая образовательные учреждения Гонконга и Тайваня)2.
В специальном исследовании процесса развития университетов в странах с переходной экономикой, а также проходящих политическую трансформацию сформулировано понятие экосистемы высшего образования, включающее целый спектр различных факторов, определяющих успешность продвижения данных систем к «совершенству» [Altbach, Salmi 2011].
К наиболее существенным факторам авторы исследования относят модель управления образовательными учреждениями и объем выделяемых им финансовых ресурсов, т.к. именно эти параметры определяют степень автономии университетов, позволяют им привлекать в качестве преподавателей и исследователей наиболее известных ученых и обеспечивать им необходимую инфраструктуру для учебной и исследовательской работы.
Естественно, существенными являются такие факторы, как сочетание политической и экономической стабильности, развитие правового государства, а также наличие в стране всех свобод, обеспечивающих самореализацию личности и развитие творческой инициативы. Важную роль играют также местоположение университета, наличие в стране общего видения будущего системы высшего обра- зования, развитие инфраструктуры, в т.ч. информационно-коммуникационной среды. Однако окончательно не удается сделать вывод о том, способны ли вузы развиваться без поддерживающей роли этих факторов, или их отсутствие может играть отрицательную роль в среднесрочной перспективе. Бурный рост китайских университетов за счет интенсивного финансирования и предоставления им большей автономии в управлении внутренними процессами может затормозиться за счет жесткого централизованного государственного контроля и имеющихся политических ограничений [Altbach, Salmi 2011].
В заключение можно констатировать, что в глобализирующемся и быстро меняющемся мире университеты также включены в процесс постоянной трансформации, призванной адаптировать их структуру, систему функционирования и место в обществе к вызовам XXI столетия.
Список литературы Эволюция отношений между государством и системами высшего образования в XIX - XXI столетиях
- Хабермас Ю. 1994. Идея университета. Процессы обучения. -Alma mater. № 4. С. 46-67
- Altbach Ph.G., Salmi J. 2011. The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities. Washington: The World Bank
- Ash M. G. 2006. Bachelor of What, Master of Whom? The Humboldt Myth and Historical Transformations of Higher Education in German-Speaking Europe and the US. -European Journal of Education. Vol. 41. Nо. 2. P. 245-267
- Jüttemeier M. 2016. Das deutsche Wissenschaftssystem: Rahmenbedingungen, Organisations-und Verwaltungstypen. -Organisationswandel und Wissenschaftskultur. Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 99-193
- Larsen C. 2004. Mehr Engagement! -Weißbuch Bildung. Für ein dynamisches Deutschland (D. Dettling, Ch. Prechtl, Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 100-110
- Le Feuvre N., Metso M. 2005. The Impact of the Relationship between the State and the Higher Education and Research Sector on Interdisciplinarity in Eight European Countries. Comparative Report. Université de Toulouse-Le Mirail. 49 р
- Luhmann N. 1980. Die Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn: zur Genese der Wissenschaft. -Wissenssoziologie. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft (22). S. 102-139
- Palmer R.R. 1986. How Five Centuries of Educational Philanthropy Disappeared in the French Revolution. -History of Education Quarterly. Vol. 26. Nо. 2. P. 181-197
- arsons T. 1968. Professions. -International Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 12. The Macmillan Company and the Free Press. P. 536-547
- Parsons T., Platt G. 1973. The American University. Boston: Harvard University Press. 474 p
- Pokol B. 2001. Komplexe Gesellschaft: Eine der möglichen Luhmannschen Soziologien. Berlin: Logos-Verlag