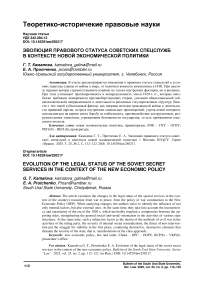Эволюция правового статуса советских спецслужб в контексте новой экономической политики
Автор: Камалова Г.Т., Протченко Е.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются изменения в правовом статусе спецслужб в условиях перехода страны от войны к миру, от политики военного коммунизма к НЭП. При анализе перемен авторы стремятся выявить влияние не только внутренних факторов, но и внешних. При этом учитывают противоречивость и неопределенность эпохи 1920-х гг., которые неизбежно требовали компромисса противоборствующих сторон, усиления общесоциальной (общечеловеческой) направленности в деятельности различных государственных структур. Вместе с тем такой субъективный фактор, как инерция методов гражданской войны в деятельности правящей партии, острота внутренних социальных противоречий, угроза новой интервенции выдвигали на первое место борьбу за стабильность, противодействие деструктивным, разрушительным элементам, угрожающим безопасности государства, то есть проявлениям классового подхода.
Новая экономическая политика, правопорядок, вчк - гпу - огпу, ркп (б) - вкп (б), прокуратура
Короткий адрес: https://sciup.org/147251172
IDR: 147251172 | УДК: 342.284.12 | DOI: 10.14529/law250217
Текст научной статьи Эволюция правового статуса советских спецслужб в контексте новой экономической политики
Сложная внутренняя и внешняя обстановка в современной России настоятельно требует изучения исторического опыта преодоления кризисных явлений, поиска ответов на вызовы в деятельности карательных органов, их места в государственном механизме реализации власти и поддержания стабильности в обществе. Особенный интерес в этом плане представляет эпоха1920-х гг., когда в условиях неопределенности действовали противоречивые тенденции, с одной стороны, гуманизм и широкая демократия для большинства населения, а с другой - необходимость борьбы с контрреволюцией, приоритет интересов государства. Опыт тех лет может быть использован в современной России, где идет не менее острая борьба двух противоположных тенденций: либерализма и традиции, а противоборство с Западом прибрело характер войны за сохранение нашей цивилизации и суверенной государственности.
В исследуемый период неоднократно менялось не только название карательных органов, но и их место в системе органов государственной власти, внутренняя структура. Все решения о реорганизации органов безопасности и внутренних дел принимались руководством РКП (б) - ВКП (б) и оформлялись протоколами Политбюро ЦК партии, и только после этого в советском порядке принимались постановления ВЦИК РСФСР, ЦИК СССР. Те же инстанции рассматривали и утверждали структуру центрального аппарата органов безопасности при очередной их реорганизации, а Политбюро и Секретариат ЦК компартии еще проводили персональные назначения, утверждая в номенклатурных должностях лиц руководящего состава органов госбезопасности.
В этой связи возникают вопросы: какие приоритеты ставила ВКП (б) перед спецслужбами? Какова роль карательных органов в укреплении стабильности, внутренней и внешней безопасности страны? Анализ деятельности ВЧК - ГПУ - ОГПУ позволяет обоснованно ответить на дискуссионный вопрос: насколько глубокими были процессы либерализации режима в связи с переходом к новой экономической политике?
В годы гражданской войны, в условиях жесточайшего классового противостояния, ВЧК превратилась в организацию, аналогов которой в России не было. Чрезвычайная комиссия одновременно являлась органом доз- нания, органом предварительного следствия, органом правосудия и органом исполнения приговоров, в том числе и исключительной меры наказания.
Переход от войны к миру объективно сужал сферу деятельности ВЧК. Разгром антисоветских сил и интервентов, общее сокращение количества вооруженных выступлений внутри страны, начало преодоления на основе новой экономической политики общего кризиса диктовали необходимость скорейшей реорганизации спецслужбы. Чрезвычайные методы, превышение служебных полномочий, бесконтрольность чекистских органов не отвечали новому этапу в развитии республики.
В научной литературе реформирование спецслужбы, упразднение ВЧК чаще всего связываются с переходом к новой экономической политике как одно из проявлений либерализации режима после окончания гражданской войны и нормализации обстановки в стране. Вместе с тем, анализ документов показывает, что это лишь одна из причин, причем не главная. Действительно, то или иное изменение государством экономической политики вносит определенные коррективы в работу спецслужб или ставит перед ними дополнительные задачи, но не меняет ее сути.
Хотя в ряде публикаций влияние внешнего фактора на реформирование правоохранительной системы оценивается невысоко [1, с. 46], на наш взгляд, среди причин реорганизации ВЧК ведущую роль сыграл именно внешнеполитический фактор - необходимость преодоления международной изоляции. Во всяком случае, бесспорно, он ускорил решение проблемы. Об этом свидетельствует переписка наркома иностранных дел Г. В. Чичерина с В. И. Лениным. В октябре 1921 года Г. В. Чичерин в письме к Председателю СНК РСФСР подчеркнул, что именно «многочисленные факты произвола и грубейших злоупотреблений властью чекистами по отношению к иностранцам и даже дипломатическим представителям (аресты дипкурьеров, обстрелы турецких судов, насильственные обыски, изъятия товаров, оскорбления и грубость, откровенное игнорирование мнения НКИД и его представителей) сделали невозможными хорошие отношения с Турцией. С Америкой, Германией и Персией уже возник из-за этого ряд конфликтов». «Политически невоспитанные агенты ЧК, облеченные безграничной властью, не считаются ни с какими правила- ми», – писал дальше нарком иностранных дел. В. И. Ленин в ярости предложил «арестовать паршивых чекистов» [9, с. 184–185]. Необходимость ограничения полномочий чекистских органов, установления начал законности в связи с международным фактором была лейтмотивом доклада Д. Курского на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции (26–30 января 1922 г.) на тему: «Роль и значение советской юстиции в связи с новой экономической политикой». Он сообщил присутствующим: «Ллойд-Джордж сказал, что Советская Россия должна быть представлена на Генуэзской конференции, но она должна дать известную систему юридических норм, которые позволят другим странам установить с ней постоянное общение» [12, с. 7].
Уже в январе 1922 года была создана комиссия для разработки проекта упразднения ВЧК. 23 января 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) утвердило решение об упразднении ВЧК и создании Государственного политического управления (ГПУ) в составе НКВД. 2 февраля Политбюро ЦК РКП (б) утвердило проект Положения об упразднении ВЧК и поручило И. С. Уншлихту составить проект Положения о ГПУ. Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и о правилах обысков, выемок и арестов» [17] ВЧК и ее местные органы были реорганизованы в ГПУ при наркомате внутренних дел РСФСР, а на местах – политические отделы (в автономных республиках и областях – при центральных исполнительных комитетах, в губерниях – при губернских исполкомах). ВЦИК определил задачи и правовой статус нового государственного органа. ГПУ создавалось для подавления открытых контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма; принятия мер для защиты государственных границ и борьбы со шпионажем; выполнения специальных поручений Президиума ВЦИК и СНК по охране революционного порядка и др. [13, с. 53].
В этом декрете подчеркивалось, что «впредь все дела о преступлениях, направленных против советского строя или представляющих нарушения законов РСФСР, подлежат разрешению исключительно в судебном порядке революционными трибуналами или народными судами по принадлежности» [16]. Закон ограничивал право ГПУ на применение внесудебных репрессий. Аресты, обыски и высылки могли впредь производиться ГПУ только по специальным поста- новлениям и особым ордерам. Арест лиц, обвиняемых в совершении преступления, мог продолжаться не более двух месяцев, после чего арестованного следовало освободить либо продлить срок ареста с разрешения Президиума ВЦИК. ГПУ обязывалось отчитываться в своей работе перед ним один раз в три месяца. Вместе с тем, как и в ВЧК, во вновь организованном ГПУ продолжали действовать Коллегия, за которой сохранялось право вынесения внесудебных решений вплоть до смертной казни, и постоянный Президиум ГПУ.
В исследуемый период видоизменялись не только сами органы, но и их место в государственном механизме и в системе правоохранительных органов. После реставрации в стране института прокуратуры прокурорский надзор был установлен и над органами ГПУ. Хотя следует отметить, что надзор прокуратуры, как правило, ограничивался лишь наблюдением за расследованием в органах ГПУ уголовных дел, утверждением обвинительных заключений с направлением этих дел в суды или постановлений о передаче материалов для внесудебной расправы. Функции прокурорского надзора за деятельностью ГПУ по политическим делам были ограничены.
После реорганизации численность спецслужб была значительно сокращена. Если в 1921 году ВЧК насчитывала 90 тыс. сотрудников, то к моменту образования ГПУ его штат был определен в 60 тыс. человек. На 1 ноября 1923 г. численность органов ГПУ составила 33 152 человека [1, с. 55]. Эта чистка аппарата свидетельствовала не только об ограничении карательных функций ГПУ, но и была направлена на создание профессиональных и строго подчиненных партии спецслужб. Сужение полномочий по сравнению с ВЧК, сокращение численности спецслужб – эти меры носили временный характер и не отражали долговременной стратегической линии правящей партии. Это был тактический ход, продиктованный интересами выхода страны на международную арену, прорыва ее изоляции, кроме того, потребности борьбы с оппозицией в стране и в партийных рядах требовали расширения полномочий карательных органов.
Ликвидация чрезвычайных органов сопровождалась изменениями в праве, тем более что с окончанием гражданской войны чрезвычайная юрисдикция утратила свое видимое оправдание. В 1922 году были приняты Уго- ловный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР. Несмотря на содержавшиеся в них существенные недостатки и упущения, кодексы сыграли важную роль в укреплении законности и правопорядка в работе правоохранительных органов. Органы ГПУ – ОГПУ также были обязаны строго руководствоваться ими в своей оперативно-служебной деятельности, прежде всего в области борьбы с государственными преступлениями. Конструктивной особенностью УК 1922 года было объявление социальной ценности и цели наказания, формирование конкретных норм Общей части, предусматривавших помимо наказания иные меры социальной защиты. Общесоциальная значимость УК проявлялась в том, что меры социальной защиты граждан от особо опасных деяний подкреплялись усилением ответственности за преступления против основ социалистического государства. Однако специальных статей, относившихся к работе органов государственной безопасности, в кодексах не было.
Законодатель, то есть ВЦИК, счел необходимым специальными (секретными) постановлениями регулировать в правовом отношении их оперативно-служебную деятельность. Именно система закрытых инструкций и циркуляров стала своеобразной правовой базой репрессивной политики Советского государства в отношении контрреволюционеров. Действительно, уже спустя месяц после принятия Декрета ВЦИК «Об упразднении ВЧК и о правилах обысков, выемок и арестов» началось последовательное возвращение ГПУ прежних чекистских функций, но делалось это в основном негласными секретными циркулярами. 9 марта на заседании Политбюро ЦК РКП (б) по докладу И. С. Ун-шлихта принимается решение, которое предоставило ГПУ право непосредственной расправы (то есть расстрела) лиц, уличенных в вооруженных ограблениях, уголовников, рецидивистов, пойманных с оружием. Кроме того, ГПУ разрешалось подпольщиков, анархистов и левых эсеров, а также всех уголовных рецидивистов отправлять в административном порядке в ссылку «в Архангельск и заключать в Архангельский концлагерь» без судебного рассмотрения дела. 27 апреля 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) поручил комиссии в составе Д. И. Курского, Н. В. Кры- ленко, М. И. Калинина и И. С. Уншлихта подготовить «юридическую формулировку от имени ВЦИК» о предоставлении ГПУ права «непосредственного расстрела на месте бандитских элементов, захваченных при совершении ими преступления» и «высылки уголовных элементов» [1, с. 48]. Одновременно ЦК РКП (б) в секретном циркуляре за подписью В. М. Молотова напоминал губернским партийным органам, что «…ГПУ и его местные органы остаются и впредь одним из важнейших органов Советской власти, которым партия и Советская власть должны уделять особое внимание» [18]. В этом циркуляре ЦК РКП (б) подчеркивал, что перевод, отзыв и перемещение полномочных представителей ГПУ, начальников губернских отделов и их заместителей должно производиться ГПУ только при согласовании с соответствующими партийными комитетами и с ведома ЦК РКП (б) в каждом отдельном случае.
Летом и осенью 1922 года ВЦИК принял ряд нормативных актов, значительно расширявших полномочия ГПУ. 10 августа 1922 г. ВЦИК принял декрет «Об административной высылке» [16], предусмотревший высылку за границу или в определенные местности в административном порядке лиц, причастных к «контрреволюционным выступлениям». Это был один из первых документов по ограничению прав и свобод граждан страны.
Рассмотрение вопросов о высылке лиц велось особой комиссией при НКВД под председательством наркома внутренних дел и представителей от НКВД и НКЮ, утверждавшихся ВЦИК. Лица, высланные в отдаленные районы РСФСР, поступали под надзор местного органа ГПУ и на весь период административной высылки лишались активного и пассивного избирательного права [7]. 16 октября 1922 г. ВЦИК дает «юридическую формулировку» и другим решениям Политбюро ЦК РКП (б) о внесудебных репрессиях. В декрете ВЦИК говорилось: «В целях скорейшего искоренения всякого рода бандитских налетов и вооруженных ограблений» узаконено предоставление ГПУ права внесудебной репрессии вплоть до расстрела в отношении лиц, взятых на месте преступления [14, с. 28– 31]. Органы ГПУ теперь могли высылать и заключать в лагерь деятелей антисоветских
Теоретико-исторические правовые науки партий, а также дважды судимых за преступления, предусмотренные четырнадцатью статьями УК РСФСР [16]. Этим декретом органы ГПУ вновь наделялись чрезвычайными внесудебными полномочиями. В то же время в постановлении ВЦИК от 16 октября 1922 г. было оговорено, что ГПУ обязывается отчитываться о своей деятельности перед Президиумом ВЦИК один раз в три месяца. Эта часть декрета была опубликована в «Известиях ВЦИК» 19 октября 1922 г.
В части декрета, не подлежавшей оглашению, прямо было сказано о «функции прокурорского надзора по наблюдению за следствием и дознанием» в органах ГПУ. При этом ограничивались функции прокурорского надзора по наблюдению за следствием и дознанием по делам политическим и по обвинению в шпионаже (ст. 55–73, 213 Уголовного кодекса РСФСР). Право вынесения внесудебных приговоров по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ было представлено исключительно коллегии ГПУ и «всякий раз, с ведома НКЮ» [14, с. 28–31]. О вынесении «внесудебных приговоров» по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ уведомлялся нарком юстиции, а в назначении наказания сотрудникам ГПУ участвовал прокурор Республики или его помощник. Новшество состояло в том, что при слушании дел о политических преступлениях и шпионаже в состав суда обязательно входили представители ГПУ, а материалы этих дел после рассмотрения возвращались для хранения в архивы ГПУ. Кроме того, не допускался вызов в суд в качестве свидетелей секретных сотрудников ГПУ, на основании сообщений которых возбуждались уголовные дела [10, с. 136–138]. В изъятие из ст. 112 УК РСФСР срок сообщения органам прокурорского надзора о всяком возбуждении органами ГПУ уголовного дела продлевался до двух недель. В изъятие из ст. 207, 208 и 209 УПК РСФСР органы ГПУ освобождались от обязанности представлять направленные ими к прекращению дела по недостаточности улик или отсутствию состава преступления в суд и прокурору для утверждения [3, 4].
Таким образом, ВЦИК, урегулировав в правовом отношении деятельность органов госбезопасности своими постановлениями от 6 февраля 1922 г., пошел не по пути строжайшего контроля исполнения этих нормативных актов, особенно в плане сужения сферы деятельности чекистских органов, а по пути расширения их полномочий, в том числе внесудебных. Это не могло не привести к нарушениям законности. На наш взгляд, обстановка перехода от войны к миру сохраняла такие острые социальные противоречия и такие жестокие методы сопротивления свергнутых классов, что именно необходимость достижения стабильности в обществе, сохранения государственности (то есть общечеловеческий фактор) требовали этого поворота.
На местах расширение полномочий ГПУ находило самую широкую поддержку их губернских отделов. Так, по мнению Пермского губернского отдела ГПУ, во исполнение постановления ВЦИК от 16 октября 1922 г., высшая мера наказания должна быть распространена не только на лиц, взятых на месте преступления, но и на тех, кто дознанием уличался в указанных преступлениях. Право административной высылки должно осуществляться непосредственно через органы ГПУ. К злостным нарушителям следовало «применять высшую меру, не допуская замедления и задержки в судебных органах» [5].
В связи с усложнением задач ГПУ предприняло меры по своему организационному укреплению. Ссылаясь на сокращение штатов, в сентябре 1922 года ГПУ вошло в ЦК РКП (б) с предложением создать «Бюро содействия ГПУ в наркоматах и центральных учреждениях РСФСР». В эти бюро должны были входить три человека из проверенных и пользовавшихся доверием работников того или иного наркомата или учреждения. В обязанности членов бюро входили «всемерное содействие ГПУ как в общей работе, так и в специальных заданиях», помощь в сборе и проверке информации и т.п. [1, с. 56]. 28 сентября 1922 г. Политбюро ЦК партии одобрило предложение ГПУ о создании групп содействия, где оно сочтет необходимым [1, с. 56]. По оценке самих спецслужб, Бюро содействия ГПУ на местах оказывали большую помощь, особенно в секретной работе по выявлению «антисоветского элемента».
Руководители чекистских служб принимали меры по совершенствованию внутренней структуры с учетом политической и экономической конъюнктуры. В условиях перехода к новой экономической политике значительно возросла роль экономического управления (ЭКУ) ГПУ и его отделов. Они занима- лись расследованием экономических контрреволюционных преступлений, доля которых в годы НЭП значительно возросла. Кроме того, в работе спецслужбы важное место занимал негласный надзор за экономикой страны. В экономическом управлении ГПУ было создано 15 специальных отделений с функциями курирования определенных учреждений и областей народного хозяйства, в том числе 2-е отделение курировало ВСНХ (39 человек) [11, с. 21]. Тот факт, что Ф.Э. Дзержинский совмещал работу в ОГПУ с председательством в ВСНХ, неслучаен. Из современных «Исторических чтений на Лубянке» известно, что «в центре и на местах предлагалось организовать особые комиссии с участием и под непосредственным руководством представителей ЧК для проверки личного состава главков и их губернских учреждений с правом увольнения лиц, признанных негодными к работе по политическим мотивам. При этом проверки должны были вестись негласными методами». Уже к июню 1923 года две трети всех хозяйственных учреждений находилось под негласным контролем экономических подразделений госбезопасности [2, с. 240].
Другой мерой, направленной на совершенствование структуры ГПУ, было преобразование следственной части Президиума ГПУ в Юридический отдел (начальник В. Д. Фельдман; штат – 42 человека) приказом от 22 августа 1922 г. № 184. Компетенцию этого отдела составляла: разработка законоположений, вносимых ГПУ в законодательные органы; дача юридических заключений на действия ГПУ, правомерность которых оспаривалась; связи ГПУ с наркоматом юстиции, Прокуратурой и Верховным Трибуналом; наблюдение за карательной политикой судебных органов по делам, поступавшим к ним из органов ГПУ и др. Приказом ГПУ от 14 ноября 1922 г. была введена четкая классификация секретных сотрудников ГПУ [11]. Меры по совершенствованию организационного строения, внедрению научной организации труда и управления способствовали не только сохранению спецслужбы, но и превратили ее в силовую структуру, способную обеспечить безопасность существующего строя.
Максимальное сосредоточение усилий спецслужб на выполнении поставленных задач способствовало значительным изменениям в их статусе и организации, связанным с образованием СССР. Первый Всеобщий съезд
Советов принял резолюцию о создании при Совнаркоме единого органа ГПУ для объединения усилий союзных республик в борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом на территории СССР [17, с. 282]. Это постановление повысило статус советских спецслужб. В 1922 году реорганизация ГПУ привела к его входу в состав НКВД как его подразделения. Однако уже через год ГПУ вышло из НКВД и стало напрямую подчиняться СНК СССР [11, с. 461–463]. Президиум ВЦИК СССР 2 ноября 1923 г. принял решение о преобразовании ГПУ в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. 15 ноября 1923 г. было утверждено Положение об ОГПУ СССР и его органах. Это изменение освободило НКВД от ответственности за обеспечение государственной безопасности.
Преобразование ГПУ в ОГПУ было прямым следствием подписанного 30 декабря 1922 г. на Первом съезде Советов Договора об образовании СССР. В п. 12 этого договора говорилось о создании при ЦИК СССР Верховного Суда с функциями верхового судебного контроля и при СНК Союза единого государственного политического управления. Органы ГПУ в республиках стали подчиняться новому ОГПУ. В отличие от органов прокуратуры, спецслужбы уже в начале 1920-х гг. были централизованы на уровне всей страны.
По Положению Об ОГПУ СССР и его органах, утвержденному 15 ноября 1923 г., Председателя ОГПУ и его заместителя назначал Президиум ВЦИК СССР. Председатель или его заместитель входил в состав Правительства СССР с правом совещательного голоса. При Председателе ОГПУ создавалась коллегия, члены которой утверждались Совнаркомом и обладали всеми правами членов коллегий народных комиссариатов СССР. Эта коллегия была высшим органом централизованного управления ГПУ. Она определяла направления, формы и методы оперативной деятельности спецслужбы и отвечала перед ЦК РКП (б) и советским правительством за реализацию их директив. На местах в краях и областях образовывались Полномочные представительства ОГПУ. В округах создавались отделы ОГПУ во главе с начальниками, подчинявшимися Полномочному Представителю ОГПУ по области. Институт Полпредов как руководителей местных органов возник еще в
ВЧК, когда в ряде крупных регионов страны были созданы Полномочные представительства ВЧК. С 1924 года Полномочным Представителем ОГПУ по Уралу был А. Я. Шаляпин, который также возглавлял экономический отдел Златоустовского ОГПУ - один из важнейших отделов региона [2, с. 241].
Положение ЦИК Союза ССР от 15 ноября 1923 г. определяло также основные направления деятельности ОГПУ: а) руководство работой государственных политических управлений союзных республик и подведомственных им особых отделов военных округов, а также транспортных органов государственных политических управлений на железных дорогах и водных путях сообщения, на территории соответствующих союзных республик; б) непосредственное руководство и управление особыми отделами фронтов и армий; в) организация охраны границ Союза ССР; г) непосредственная оперативная работа в общесоюзном масштабе. Сотрудники ОГПУ и его местных органов в правовом отношении (пользование транспортом, средствами связи, снабжение и т.д.) приравнивались к военнослужащим Красной Армии.
Увеличение значимости чекистского аппарата подтверждается тем фактом, что его существование как постоянного органа советского государства было закреплено в окончательной редакции Конституции СССР, принятой вторым съездом Советов СССР 31 января 1924 г. В новой Конституции СССР была выделена отдельная глава, посвященная ОГПУ (гл. 9 ст. 61-6). Согласно Конституции СССР ОГПУ вошло в систему исполнительных и распорядительных органов Союза ССР и союзных республик на равных правах с союзнореспубликанским наркоматом [17, с. 298– 299]. Глава 9 Конституции СССР определила цель создания, систему управления и подчинения ОГПУ. Статья 61 Конституции указывала, что ОГПУ учреждается при СНК СССР «в целях объединения революционных усилий союзных республик в борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» [18, с. 298–299]. Однако наиболее значительные изменения положения ОГПУ произошли весной 1929 года. 18 мая было опубликовано Постановление XIV Всероссийского съезда Советов об изменении и дополнении ряда статей Конституции РСФСР. Согласно новой редакции ее ст. 32 Уполномоченный ОГПУ стал членом СНК РСФСР с правом решающего голоса, что означало фактический переход ОГПУ на статус наркомата. Изменение места спецслужбы во властном механизме привело к дальнейшим структурным изменениям внутри ОГПУ [16]. Еще в 1926 году произошло объединение пограничных органов и войск ОГПУ. Было образовано Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ.
Статус спецслужб в 1920-х гг. постоянно повышался как в государстве в целом, так и внутри правоохранительной системы. Проблема взаимоотношений между органами ОГПУ и прокурорским надзором была сложной не только на центральном уровне, но и на местах. Прокурорский надзор над органами госбезопасности был установлен сразу после восстановления института прокуратуры в стране. В специальном приказе ГПУ от 31 августа 1923 г. № 363/с «О прокурорском надзоре и его взаимоотношениях с органами ГПУ» были конкретизированы формы и объем этого надзора. С самого начала организации прокуратуры на Урале Полномочные представители ГПУ по округам в большинстве своем негативно относились к ней. На местах, как отметил в своем отчете за 1924 год Прокурор Уральской области В. Т. Попов, органы ГПУ стремились «ускользнуть из сферы влияния прокуратуры». Работники прокуратуры воспринимали усилия по укреплению законности как «защиту контрреволюционеров, нэпманов и прочих буржуев», что мешало органам безопасности выполнять их задачи. Из-за этого первая половина 1924 года была потрачена на то, чтобы заставить органы ГПУ считаться с прокуратурой не только на бумаге, но и в реальности. Так, в Челябинском округе органы ГПУ официально отказывались выполнять отдельные требования прокуратуры по производству дознания по причине малочисленности штатов. Начальник Курганского окружного отдела ГПУ и его заместитель вообще отказывались признавать за прокуратурой право надзора [9].
Необходимость укрепления прокурорского надзора за законностью деятельности спецслужб на местах диктовалась, прежде всего, «почти совершенным незнакомством сотрудников ГПУ с советским законодательством и порядком производства следствия и дознания», «несоблюдением процессуальных норм». Это проявлялось в том, что дела еще за 1921 год лежали без всякого движения, по делам, направленным в Москву для административной высылки, не было заключений прокурора и т.п. Та же картина наблюдалась и в 1925 году. Областной прокурор отмечал «юридическую безграмотность большинства сотрудников местных отделов ГПУ», «грубое нарушение законов» [18] (превышение сроков ведения дел, неосновательное заключение под стражу, неправильная квалификация преступлений и т.п.).
В 1924 году окружными прокуратурами Уральской области было проведено 69 официальных проверок органов ГПУ. Областная прокуратура организовала три совещания и дала 62 письменных заключения по делам, проводимым ГПУ [18]. В 1925 году областная прокуратура планировала провести анализ деятельности каждого Полномочного Представителя ГПУ. Проверка органов ОГПУ, проведенная прокуратурой в 1925 году в Пермском округе, снова обнаружила недостатки в их работе: слабое знание сотрудниками ГПУ уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса и уголовно-технических норм; недостаточная ориентировка в производстве следствия и дознания, что приводило к неправильной квалификации преступлений [5]. В 1926 году было проведено всего 6 проверок органов ГПУ. Среди выявленных нарушений правовых норм были: применение меры пресечения в виде заключения под стражу без предъявления обвинений; проведение органами ГПУ официальных дознаний или следствия, хотя формально дела не были зарегистрированы как принятые к производству. Эти нарушения свидетельствуют, что, несмотря на усилия прокуратуры, многие проблемы в работе спецслужб остались нерешенными [5].
Вместе с тем следует отметить, что и окружные прокуратуры не всегда подходили к анализу работы органов ГПУ принципиально. Судя по отчетам Челябинской окружной прокуратуры за 1924–1927 гг., надзор за органами ГПУ в их работе не занимал значительного места. В плане на 1926 год надзор за органами ГПУ уместился всего в одном предложении: «Установить и производить обследование окружного отдела ОГПУ один раз в три месяца, также проводить с сотрудниками окружного отдела ОГПУ, с целью повышения их правовой подготовки, инструктивные беседы» [7]. В Нижне-Тагильском округе прокуратура в 1925 году обращала внимание не на закон- ность действий органов ОГПУ, а на формальное «отсутствие придирчивости и мелочности» [18]. Для устранения отмеченных недостатков прокуроры давали работникам ГПУ устные и письменные разъяснения и указания [7]. В 1925 году областная прокуратура направила в окружные органы прокурорского надзора перечень действовавших инструкций и циркуляров по надзору за ГПУ [19]. К концу 1924 года грубейшие недочеты в деятельности органов ОГПУ в Уральской области были в основном устранены [18]. Однако стоит отметить, что надзор прокуратуры, как правило, ограничивался лишь наблюдением за расследованием в органах ГПУ уголовных дел, утверждением обвинительных заключений с направлением этих дел в суды или постановлениями о передаче материалов для внесудебной расправы.
С образованием в 1924 году Верховного Суда СССР надзор за законностью действий ОГПУ СССР был возложен на Прокурора Верховного Суда СССР [15]. Верховный Суд СССР имел непосредственную связь с ОГПУ. В составе пленарного заседания Верховного Суда СССР был представитель ОГПУ. ОГПУ по своей инициативе могло направлять вопросы на рассмотрение пленарного заседания. Такое право имели также ЦИК СССР, его Президиум, Прокурор Верховного Суда СССР, прокуроры союзных республик. Это давало возможность ОГПУ влиять на работу Верховного Суда СССР. Но была и обратная связь. Прокурор Верховного Суда СССР имел возможность выносить на рассмотрение Верховного суда СССР для представления в Президиум ЦИК СССР вопрос о приостановлении и отмене постановлений, действий и распоряжений ОГПУ. Для надзора за ОГПУ во всех его отделах имелись «специально назначенные младшие помощники Прокурора Верховного Суда СССР, работавшие под непосредственным наблюдением и руководством помощника Прокурора Верховного Суда СССР по надзору за ОГПУ» [10].
В улучшении отношений между прокуратурой и ОГПУ в центре и на местах ключевую роль сыграли партийные органы. С 1926– 1927 гг. в отчетах Прокурора Уральской области исчезли резкие критические высказывания в адрес ОГПУ и его сотрудников. Отмечаются явное стремление к компромиссу и признание притязаний ОГПУ на особый статус в системе правоохранительных органов. В отчете областного прокурора за 1925 год указывалось, что отношения с органами ГПУ были нормальными, а в некоторых округах даже хорошими [18]. Архивные материалы показывают, что для устранения недостатков в работе уральских органов ОГПУ потребовалось вмешательство центральной власти. При этом от прокурорских работников области требовалось тщательное документальное оформление всех выявленных недочетов в деятельности органов госбезопасности. Этот подход характерен как для местных, так и для центральных органов. Факты фальсификации обвинительных материалов и применения незаконных методов следствия в 1927 году снова осложнили отношения между прокуратурой и ОГПУ. Преодолению противоречий способствовали вмешательство высших партийных органов и разработка совместной директивы, ставшей компромиссом между руководством прокуратуры и ОГПУ. В ней отмечалось, что «на взаимоотношениях ОГПУ и прокуратуры отражаются непонимание и недооценка со стороны прокуроров задач, стоящих перед органами ОГПУ, и наоборот. У некоторых работников прокуратуры до сих пор имеются взгляды, что работники ОГПУ сознательно не хотят выполнять и считаться с законами, так как являются противниками укрепления социалистической законности. Работники ОГПУ, в свою очередь, видят в прокурорах формалистов – крючкотворцев, мешающих и тормозящих работу органов. Понятно, что подобное отношение в будущем недопустимо.
Директива признавала, что особые условия работы ОГПУ могут иногда находиться в противоречии с формальными требованиями закона, но считала их необходимыми и целесообразными. Это означало прямое ограничение прав прокурорского надзора, признание приоритета «революционной закалки и решительности» чекистов в борьбе с преступностью над строгим соблюдением законов.
В результате проведенных преобразований в стране были созданы профессиональные, дисциплинированные спецслужбы, подчиненные воле правящей Коммунистической партии. Рост авторитета и повышение роли чрезвычайных и карательных органов в механизме государственной власти 1920-х гг. был детерминирован тем, что обычный административный аппарат оказался мало пригоден для «революционных действий», связанных с осуществлением индустриализации и сплошной коллективизации, ибо он унаследовал все пороки традиционной российской бюрократии. Как ни парадоксально это звучит, их возвышение имело своим результатом решение важнейшей общесоциальной задачи – достижение стабильности в обществе и превращение СССР в сильнейшую мировую державу.